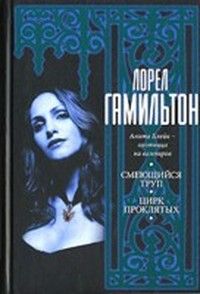Потому что я услышал рев и увидел, как ребята из Ганторпа швыряли вверх курточки, и почувствовал на дорожке позади себя надвигавшийся топот ног. Внезапно меня обдало запахом пота и сиплым дыханием промчавшихся мимо, извиваясь в сторону ленточки, выдохшись и шатаясь из стороны в сторону, хрюкая, как какой-нибудь туземец, как я лет в девяносто, когда поползу к уютному гробику. Я и сам мог бы его подбодрить:
– Давай, давай, жми вперед! Удавись на этой ленте!
Но он был уже там, так что я двинулся за ним, протрусил до финишной черты и рухнул на землю под отдававшийся у меня в ушах возмущенный рев, потому что черту я так и не пересек.
Похоже, пришло время остановиться, хотя мне кажется, что я все еще бегу, потому как и вправду бегу, так или иначе. Начальник колонии поступил так, как я и думал: он вообще не оценил мою честность. Я не то чтобы на это надеялся или пытался ему что-то объяснить, но если он вроде бы образованный, то мог бы и сам более-менее врубиться. Отомстил он мне по полной или думал, что отомстил, потому что заставил меня каждое утро катать огромные мусорные баки из кухни к садовой ограде, где надо было их опустошать. Днем я поливал компостом росшие на грядках картошку и морковку. Вечером я километр за километром драил полы. Но эти полгода я прожил неплохо, и это еще одна штука, которую он никогда не смог бы понять. Он бы еще больше усложнил мне жизнь, если бы смог, и, оглядываясь назад, я понимаю, что оно того стоило, если учесть, сколько я передумал, и то, как ко мне прикипели ребята, потому как я нарочно проиграл кросс, и как всегда восхищались мной и ругали начальника (за глаза).
Работа меня не сломила, наоборот, я во многом стал еще сильнее, и когда я выходил, начальник понял, что все его гадости ни к чему не привели. Ведь после выхода из колонии меня пытались загрести в армию, но я не прошел медкомиссию, и вот почему. Не успел я освободиться после того финального забега и шести месяцев пахоты, как сразу свалился с плевритом, что для меня, по крайней мере, означало, что я действительно проиграл кросс начальника, но свой забег выиграл, причем дважды. Потому как я точно знаю, что если бы не вышел на дистанцию, то не подхватил бы плеврит, который отмазывает меня от казармы, но не мешает мне заниматься делом, к которому тянутся мои шаловливые пальчики. Сейчас я на воле и снова в бегах, но легавые еще не взяли меня за последнее большое провернутое дело. Я срубил шестьсот восемьдесят восемь фунтов и до сих пор живу на них, потому что все сделал сам, и после этого у меня выдалось спокойное время, чтобы все это написать. У меня хватит денег на то, чтобы прожить, пока я не отточу план дела куда крупнее, козырного захода, о котором я ни одной живой душе не скажу. Пока я в колонии драил щетками полы, я разработал систему лежбищ и тайников, придумал, как казаться скромным, честным и работящим, и в то же время отточил свое мастерство, потому что знал, чем займусь, как только выйду на волю, и что стану делать, если снова попадусь гребаным легавым.
Тем временем (как говорится в паре попавшихся мне книжек, бесполезных, потому что все они кончались финишной чертой и ничему меня не научили) я передам этот рассказ одному своему приятелю и скажу ему, что если меня все-таки опять сцапают легавые, пусть он попытается вставить его в книжку или еще куда, потому как хотел бы я увидать рожу начальника колонии, когда он его прочитает, если прочитает вообще, в чем я сильно сомневаюсь. А даже если и прочитает, то не факт, что врубится, что там к чему и почему. А если меня не сцапают, то парень, которому я отдам этот рассказ, никогда меня не выдаст: он ведь жил по соседству, сколько себя помню, и мы с ним друзья. Это я точно знаю.
Из общественного туалета вышел средних лет человек в грязном плаще, давно не брившийся и выглядевший так, словно месяц не мылся. Под мышкой он держал холщовый мешочек с инструментами. Остановившись на мгновение на краю тротуара, чтобы поправить кепку – единственный чистый предмет одежды, – он привычно посмотрел по сторонам и, когда машин поубавилось, перешел улицу. Его имя и профессия всегда произносились на одном дыхании, даже если о его профессии речь не шла: Эрнест Браун, обивщик мебели. Каждый вечер, прежде чем вернуться в свое жилище, он оставлял мешочек с инструментами на хранение у человека, который присматривал за общественной уборной, поскольку был уверен, что рискует их потерять или же их украдут, если он принесет инструменты домой. А если так, то ему станет нечем зарабатывать на жизнь.
Часы на здании мэрии мелодично пробили половину одиннадцатого. Над театром в разрывах осенних туч синели клочки чистого неба, и пронизывающий ветер гнал обрывки бумаги и пустые сигаретные пачки вдоль нечищеных сточных канав. В животе у Эрнеста урчало, и он направлялся позавтракать, войдя в кафе и на пороге инстинктивно пригнув голову, хотя до дверной перекладины было добрых полметра.
Длинный просторный зал заведения был почти полон. Обычно Эрнест приходил завтракать в девять часов, но вчера в пабе за перетяжку двух кресел и дивана ему заплатили десять фунтов, так что он переместился в бар и провел там остаток вечера, кружку за кружкой потягивая пиво: медленно и сосредоточенно, как свойственно одиноким людям. В результате утром он с трудом очнулся от полупьяного и безмятежного сна. Лицо у него было бледным, а глаза отдавали нездоровой желтизной. Когда он говорил, во рту проглядывали редкие уцелевшие зубы.
Миновав с полдесятка шумных посетителей, стоявших вокруг, он оказался у изрезанного и ободранного по краям прилавка, похожего на морской берег после вторжения завоевателей между двух мысов-чайников. Дородная брюнетка была чем-то занята, так что он торопливо пробежал глазами список блюд, начертанный на черной доске крупными белыми буквами. Он сделал робкое движение рукой.
– Чашку чая, пожалуйста.
Брюнетка повернулась к нему. Из горлышка плотной темной струей полился чай, наполняя чашку с трещиной, похожей на волосок в молоке. Затем сквозь поднимавшееся облачко пара туда со звоном упала ложка.
– Что-нибудь еще?
– И помидоры с гренками, – нерешительно произнес он.
Взяв пододвинутую ему тарелку, он медленно выбрался из толпы, потом повернулся и направился к свободному столику в углу. От тарелки шел дразнящий аппетитный запах. Он взял нож и вилку и быстрым, точным движением мастерового отрезал краешек гренка с помидором и медленно отправил его в рот, с наслаждением жуя и едва замечая окружающих. Каждый легкий взмах ножа и вилки, каждый геометрически ровный надрез на гренке, каждое движение губ – все это слилось в сложный и размеренный процесс, доставлявший ему огромное удовольствие. Он ел медленно, спокойно и сосредоточенно, занятый только собой и тем, как пища согревает его тело и вновь возвращает к нормальной жизни. В полном народу кафе стоял знакомый ему предполуденный шум: раздававшееся отовсюду позвякивание чашек, блюдец и ложек напоминало музыку с переменами ритма. Многие годы он ел один, но так и не привык к одиночеству. Он и не мог к нему привыкнуть, а только временно к нему приспосабливался, в надежде, что однажды оно все-таки закончится. Эрнест мало что вспоминал из прошлого, а жизнь шла и шла своим чередом, так что он почти не замечал ее течения. У него почти не сохранилось ярких воспоминаний о прошедших годах, разве что о мертвых и умирающих, беспорядочно лежавших среди траншей и колючей проволоки во время Первой мировой войны. В последующие годы он то и дело повторял две фразы: «Я не должен жить здесь, в Англии. Я должен был погибнуть со всеми во Франции». Время отняло у него эти две фразы, от которых остался лишь безголосый, неясный образ. Он понял, что люди относятся к нему, словно он призрак, как будто он не из плоти и крови (так ему казалось), и с тех пор стал жить один. Жена от него ушла – как говорили, из-за его ужасного характера, а братья разъехались по другим городам. Потом он было подумал разыскать их, но решил этого не делать: ведь даже в этой его обособленности главным казалось желание жить дальше и принимать все как есть. Его не покидало смутное чувство, что возвращаться в прошлое, выискивать там памятные моменты юности, запахи и звуки, напоминавшие о лучших временах, – все это похоже на смерть. Он рассудил, что лучше оставить их в покое, потому что ему казалось вполне вероятным, что после смерти – когда бы она ни пришла – он снова со всем этим встретится. От военного невроза и контузии шрамов не осталось, так что он остался без пенсии после всего, что пережил на войне, но даже ему никогда не приходило в голову слово «несправедливость». Ему просто стало все равно: бремя прожитых лет раздавило его, сделав его жизнь вполне сносной и терпимой. Когда началась следующая война, она поначалу не очень-то его беспокоила, и даже проведенные в тюрьме дни и штрафы, которые его заставляли платить за то, что у него не было удостоверения личности или продуктовых карточек (или за то, что он с легким сердцем отдавал их дезертирам), не вывели его из состояния подавленного равнодушия. Кошмарные ночные часы, полные грохота орудий и разрывов бомб, вызывали в памяти давно позабытый смутный образ, когда он пустым взором смотрел в потолок съемной комнатенки в полуподвале, и даже пробуждали бессвязные слова двух безумных фраз. Однако, глядя с высоты прожитых им лет, война кончилась довольно быстро, и снова воцарилось равнодушие. Он кое-как сводил концы с концами, добросовестно обивая кушетки, диваны и стулья, не замечая никого вокруг. Когда становилось трудно найти работу и жилось тяжело, он не очень-то обращал на это внимание, а когда судьба ему улыбалась и денег хватало, он также не замечал особой разницы и тратил все заработанное на пиво, ни разу не задумавшись о том, что ему нужно новое пальто или пара крепких ботинок. Он доел с тарелки остатки гренок и помидоров и почувствовал на зубах чаинки. Закончив жевать, он закурил сигарету и снова оглядел сидевших вокруг людей. Было уже одиннадцать, и низкий зал кафе потихоньку пустел, в нем оставалось с десяток посетителей. Он слышал, как за одним столом говорили о скачках, а за другим – о войне, но слова эти лились к нему в уши и воспринимались где-то в отдаленных уголках сознания, оставляя его спокойным и сосредоточенным, пока он лениво рассматривал стоявшие в зале столы и стулья, образовывавшие некий узор. До двух часов дня работы не предвиделось, так что он намеревался просидеть в кафе до этого времени. Однако он вдруг смутился, что станет так долго сидеть за пустым столиком, встал и направился к прилавку за чаем и пирожными. Пока его обслуживали, зашли две девочки. Одна села за стол, а вторая, что постарше, встала к прилавку. Вернувшись к своему столику, он обнаружил, что за ним сидит девочка помладше. Он смутился и застеснялся, но все же сел на свое место, чтобы выпить чаю, и разрезал пирожное на четыре части. Девчушка не отрываясь смотрела на него, пока от прилавка не приблизилась старшая с двумя чашками горячего чая. Они сидели, говорили, пили чай, не обращая ни малейшего внимания на Эрнеста, который чувствовал, как ему понемногу передается их скрытое детское оживление. Он время от времени поглядывал на них, ощущая себя лишним, хотя смотрел на них мягко, добрыми, полными улыбки глазами. Девочка постарше, лет двенадцати на вид, была одета в коричневое пальто, которое было ей великовато. Хотя она почти все время говорила и смеялась, он обратил внимание, что лицо у нее бледное, а большие круглые глаза, которые могли бы показаться красивыми, оживленно поблескивают, свидетельствуя об отсутствии заботы и нужде.