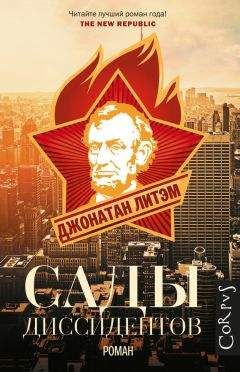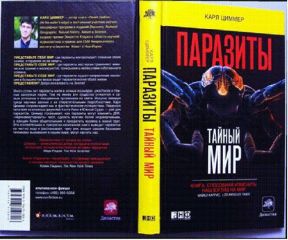Они пришли на дневной матч, примкнув к малочисленной толпе случайных завсегдатаев да школьников-прогульщиков, и узнали – что было неудивительно для “Метс” в те дни, – что в кассе имеются билеты на лучшие места, парные и одиночные, во всех секциях. Не успел Цицерон даже рот раскрыть, как Роза наклонилась к окошку билетера и сказала:
– Поближе к Богу.
– Простите?
– В верхнем ряду. Самые дешевые места. – Схватив билеты и устремившись к турникетам, она доверительно шепнула Цицерону: – Я бы и так проскочила, но ты слишком большой – тебя заметят. Если тебе не понравится, как оттуда видно, мы смухлюем и в последних иннингах спустимся пониже, к самому полю.
– Как это похоже на вас, белых. Если уж черный садится в верхнем ряду, то там и остается.
– Ну, тогда ты будешь торчать там, как Роза Паркс, в своем верхнем ряду.
– Заманчивая перспектива. А что ты вдруг о Боге заговорила?
Роза пожала плечами.
– Ну, это просто выражение такое. “Где ты сидел на матче?” – “О, видел бы ты, где мы сидели. На самом-самом верху – поближе к Богу!”
– Так, наверное, Ленни любил выражаться. Очень на него похоже.
– Не все, что похоже на Ленни, придумал сам Ленни. Да и вообще, Ленни-то не на пустом месте возник. Я слышала, бейсболисты бастовать собрались.
– Ну вот видишь, Роза? Рабочий класс не сдается.
Она только отмахнулась, как бы говоря: рабочий класс или бессмертен, или вообще никогда не существовал.
– Просто владельцы команд, эти сукины дети, поливают их грязью в реакционной прессе. Куда это ты уставился, Цицерон? Думаешь, я уже не в состоянии узнать спортивный раздел “Нью-Йорк пост”? Да это единственная газета, которую приносят в наше заведение каждый божий день.
– Ну, ты и молодчина!
– Да ладно, не придуривайся.
Цицерон и не думал придуриваться. Совсем наоборот: он диву давался, как это она вдруг оживилась – с почти пугающей быстротой, будто губка, которая начала впитывать воду и разрастаться, причем нельзя предсказать, какие размеры она в итоге примет. Казалось, она вот-вот схватит его за рукав рубашки, и они начнут обходить дозором стадион, словно это не стадион, а тротуары и витрины магазинов в Саннисайде.
– Можно поискать лифт, – предложил Цицерон.
– А давай лучше пешком. Мне так нравятся эти пандусы.
Похоже, насмотревшись на платформы надземки, Роза вдохновилась и решила тоже забраться как можно выше – то ли для того, чтобы обозреть с высоты, как первосвященник, свой родной район, то ли для того, чтобы наступить ему на голову. И вот, действуя в соответствии с такими замыслами, они уселись в тени возле самой стенки стадиона, откуда игроки казались едва ли не дальше, чем самолеты, которые в устрашающей близости к земле подлетали к аэропорту Ла Гуардиа или вылетали из него. В этой секции почти не было зрителей, так что никто не видел, как Роза с Цицероном болтали, пока звучал гимн.
– Здесь нам никто не продаст хот-догов.
– Ну, ты же можешь спуститься и внизу купить. Или ты думаешь, что черным здесь хот-доги не продают? Мне-то откуда знать, я в таких вещах не разбираюсь. А кто этот питчер?
– Пэт Закри, Роза. А я-то еще поверил, что ты правда читаешь спортивный раздел “Нью-Йорк пост”!
– Что-то я не в восторге от этого Пэта Закри.
– Ну да. Пэт Закри – это то, во что выродился Том Сивер в эпоху Рейгана.
Цицерон на время оставил Розу, отправился исследовать сумрачные буфеты в прохладном пещерном нутре верхнего яруса, купил хот-догов, мягких тяжелых кренделей и содовую. В четвертом иннинге Дейв Кингман сделал хоумран, пробежав по пустым базам, и по подковообразному стадиону пронесся жидковатый радостный гул – будто монетки посыпались в кружку. В нечетных иннингах пробежки устраивал Пэт Закри; над кругом питчера мелькали тени, игра скатывалась в какой-то убаюкивающий, унылый ритм, который изредка нарушали самодовольные насмешки.
– Да уж, игра так себе, но все равно здорово, – изрекла Роза.
– Ну да.
– А почему же мы раньше не додумывались сюда прийти?
– Ну, зато теперь взяли да пришли.
– Проводи меня внутрь после следующего аута.
– Замерзла?
– Мне в уборную нужно.
Цицерон проводил ее до женского туалета, а сам пошел в мужской. А там – ну и дела! – похоже, вовсю разворачивалась жаркая схватка седьмого иннинга. Цицерон почувствовал, что происходит у него за спиной, пока стоял у писсуара. Странное дело: народу в кабинках было куда больше, чем можно было бы подумать, видя почти пустую верхнюю секцию. Значит, такие дела творятся везде и повсюду – надо только места знать. Потом появился новый партнер, проворно проскользнул в свободную кабинку. Может, по средам здесь особые мероприятия для завсегдатаев верхних рядов? И на них можно так же железно рассчитывать, как на станцию обслуживания “Уолт Уитмен”, – как знать? Ну что ж, незнакомец. Цицерон не потрудился даже застегнуть ширинку, скользнул в ту же кабинку, и его приятель, с виду эдакий ирландский папаша лет сорока с лишним, выстрелил свой заряд почти так же быстро, как Пэт Закри позволял “Джайентс” перейти к следующему удару. Цицерон успел вымыться и занять выжидательную позицию у прохладной бетонной стены, прежде чем вышла Роза.
– Цицерон? – вопросительно сказала она, когда они вернулись на свои места.
– М… – Они купили по мороженому, и у него во рту как раз была деревянная лопаточка.
– Ты веришь в Бога?
Глупый вопрос: разве Роза когда-нибудь давала ему шанс заинтересоваться религией? А к тому времени, когда Цицерон дорос до того, чтобы самостоятельно поискать ответ в лабиринте собственного ума, его на каждой извилине уже подстерегал Розин скептицизм. Его мозг оказался заранее отформатирован – для его же удобства.
Но если Цицерону и было в чем упрекнуть Розу, то уж точно не в этом. Среди тех утешений, от помыслов, о которых его надежно избавило Розино презрение, не нашлось ни одного, которое могло бы показаться Цицерону привлекательным. Ее вмешательство в его биографию, ее вторжение в его умственную жизнь оказалось, помимо всего прочего, еще и важным средством экономии времени. Карлики на плечах гигантов, и тому подобное.
– Почему это я вдруг должен поверить в Бога?
– Просто я очуметь как хорошо провела тут время – вот почему.
– Я тоже, – соврал он.
– Мы что же с тобой – Корсиканские братья?
* * *
Но больше такого уже никогда не было.
* * *
Полгода спустя Цицерон застал ее лежащей в кровати. Она даже не пожелала одеться к его приходу, и на постельном покрывале лежали разбросанные карточки картотеки. Она вернулась в прежнее чудовищное состояние блокировки: ее мир снова сузился до размеров палаты, а может быть, до величины неуклонно съеживавшегося пространства внутри нее самой. Та поездка на стадион Ши померкла, как забывшийся сон.
– Помоги мне, Цицерон, – сказала она, но не просительным, а негодующим тоном, как будто он давно отлынивал от своего долга.
Эти рукописные карточки, опора для рвущихся в клочья Розиных воспоминаний, эта картотека имен и адресов выродилась в выведенный дрожащими от болезни Паркинсона печатными буквами список актеров, выступавших на сцене гаснущей Розиной памяти: там были и торговые представители “Риалз Рэдиш”, и члены правления библиотеки, насильно сведенные в одну компанию со стародавними агентами компартии, замаскированными под любовников, или же наоборот. Сестра, напоминала одна карточка, с перечеркнутым адресом во Флэтбуше, исправленным на адрес во Флориде. На другой карточке, еще более дрожащей рукой, было выведено: УМЕРЛА. Другие были исписаны совершенно хаотично: Роза записывала подсказки на любой случай. Например, на одной карточке значилось только: Эли Визель НЕНАВИЖУ. Если бы только она сумела прочитать все записи и пометки одновременно или спроецировать эти карточки в виде голограммы себе в мозг, то тогда, быть может, она бы сразу все вспомнила.
Для Мирьям карточки не существовало, а потому Роза в последнее время о ней не упоминала. Цицерон никак не мог придумать подходящего предлога, чтобы заговорить о ней. Не было записей и о внуке Розы, который затерялся где-то в Пенсильвании.
То, что о Серджиусе Гогане не заходило и речи, особенно радовало Цицерона: это было больное место, которое не хотелось даже трогать.
– А кого ты ищешь? – спросил он Розу.
– Одного знакомого полицейского.
– Ну, ты же знаешь нескольких.
– Нет-нет, другого. Давно. Он уже умер.
– Тогда какая разница?
– Я… я хочу, чтобы он арестовал медсестру.
Вот оно, всегдашнее жуткое дно ее праведности: оказывается, черные женщины пытаются стащить у нее что-то. Вот они, всегдашние фантазии бывшей революционерки о мужчинах в форме, холодно восстанавливающих справедливость.
– Но как же он может кого-то арестовать, если он умер?