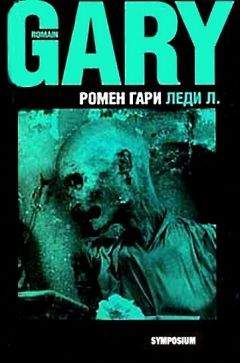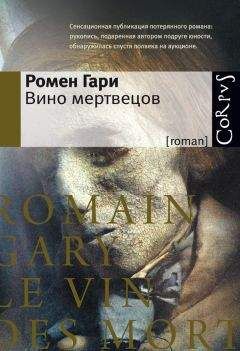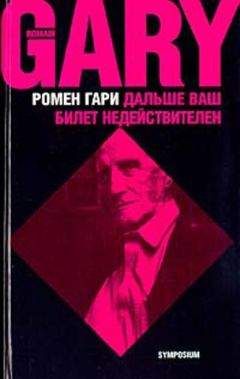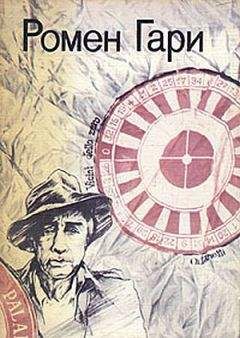Краевский находился тогда в закате своей карьеры, но, по его собственному признанию, он никогда не играл так вдохновенно, как в тот вечер. «Таким образом я воздавал должное идеалу, пылавшему в душе этого человека, – пишет поляк и добавляет с этой своей склонностью к прикрасам, следы которых Леди Л. с сожалением находила порой и в его музыкальных интерпретациях, – идеалу, который приливами своих чувств грозил обратить в пепел весь мир».
Подвигов такого рода в карьере Армана Дени было немало. Быть может, в этом и вправду следовало видеть печать «буржуазного романтизма», в котором его упрекал Кропоткин, но Леди Л. казалось, что эта тяга к поражающему воображение, театральному свидетельствовала в действительности о новом понимании пропаганды и агитации – явлении, секрет которого был раскрыт лишь в XX веке. «Овладение массами» стало единственной целью эпохи во всех сферах и не могло осуществляться только за счет силы идей; театральность, инсценировка и разукрашенная всеми соблазнами сердца, воображения и мысли демагогия стали оружием в великих попытках обольщения, подготовка которых шла полным ходом. Франция всегда являла собой скороспелый плод, и драма Армана Дени заключалась в том, что он был первопроходцем.
Происшествие с итальянским дирижером Серафини показывает, что речь шла не о какой-то импровизации, случайно возникшей в голове юного идеалиста, но о четко спланированной, широкомасштабной кампании. Достопочтенного итальянца похитили по дороге в Оперу, где публика напрасно прождала его весь вечер; Арман и Фелисьен Лешан отвезли его в приют на берегу канала Сен-Мартен, где на убогих нарах храпело, вычесывало вшей и горланило пестрое сборище бедняков и пьяниц. Там маэстро попросили дирижировать воображаемым оркестром, и два часа подряд, во фраке и с палочкой в руке, он жестикулировал, как кукла, перед кошмарной аудиторией, которая аплодировала и, судя по всему» очень возлюбила эту пантомиму, ибо едва давала несчастному время перевести дух и вытереть пот, градом катившийся по его испуганному лицу. Впрочем, Арман Дени питал глубокую идеологическую ненависть к музыке, поэзии и искусству вообще: во-первых, потому что оно предназначалось лишь для избранных, а также из-за того, что любое стремление к прекрасному казалось ему оскорбительным для народа, если не вписывалось в рамки всеобщей борьбы за изменение условий его существования…
Альфонс Лекер сказал несколько слов Арману Дени, и тот сделал знак Анетте следовать за ним. Он взглянул на нее лишь мельком. Леди Л., вспоминая ту сцену, даже сейчас еще в биении своего сердца и в неожиданно подступавшем к горлу комке ощущала всю неукротимость и глубину охватившего ее тогда чувства. Это было первым проявлением одной из черт тиранической и властной натуры, ошибки которой сегодня ей были слишком хорошо известны. Красота – мира, людей и вещей – всегда как бы приводила ее в смятение либо вызывала наводящее смертную тоску ощущение эфемерности; потребность продлить, увековечить перерастала в стремление к страстному обладанию, неуступчивое и отчаянное одновременно. Она никогда не могла смотреть на Армана без возмущения, ибо знала, что через минуту он отвернется, уйдет, бросит ее, и неистовое, абсолютное счастье, которое она испытывала, когда ощущала его в себе, не сможет продлиться, что, в сущности, оно эфемерно и обречено на гибель и что эти скоротечные мгновения и есть то единственное, что она сможет когда-либо узнать о вечности. Жажда обладать вновь просыпалась в ней с такой силой, что она заранее была готова на любые формы подчинения.
– Наверное, я была еще просто маленькой обывательницей, – сказала Леди Л.
По узкой винтовой лестнице они поднялись в одну из комнат четвертого этажа, где он впервые заговорил с ней, но она не вслушивалась в смысл его слов – уже одного его голоса и его присутствия ей было достаточно. И тем не менее еще сегодня она была уверена, что смогла бы с мягкой иронией восстановить все, что он тогда ей сказал под звуки музыки Листа, доносившейся снизу; она так хорошо его изучила, что вряд ли могла ошибиться, более того, она чувствовала себя способной добавить еще одну, финальную главу к его «Трактату об анархии».
– Искусство – преждевременно. Понятие «прекрасного», когда оно оторвано от социальной действительности, по сути, реакционно: вместо того чтобы бинтовать раны, их прячут. Достаточно пройтись по нашим музеям, чтобы увидеть, до каких крайностей может дойти художник в своей лжи и пособничестве: эти восхитительные натюрморты, эти прекрасные фрукты, устрицы, отборное мясо, дичь – оскорбление всех тех, кто подыхает с голоду в двухстах метрах от Лувра. Нет ни одной оперы, в которой народ мог бы услышать отклик на свою нищету, на свои чаяния. Наши поэты говорят о душе, хлеб их не вдохновляет. Церковь пошатнулась, и поэтому музеи втихомолку готовят к тому, чтобы они приняли эстафету у этих курилен опиума…
В течение всего времени, что они прожили вместе, его был один из любимейших его припевов, а также одна из причин, побудивших Леди Л. С такой любовью собирать произведения искусства: впрочем, дело было не столько в вызове, сколько в мягкой иронии. Еще один Рубенс, Веласкес, Эль Греко: в сердечных делах не бывает мелких выгод, и его надо было немножко наказать. Она даже стала рассматривать Армана как сбившегося с пути художника, требовавшего от социальной действительности того, что дать ему могло только искусство, – совершенства. Он стремился разрушить существующий строй потому, что тот был ему противен так же, как официальная живопись противна тем, кто мечтает о новом свободном искусстве. Анархисты, несомненно, дикий период идеализма. Переходя от одного разочарования к другому, от одной неудачи к другой, некоторые из них самым естественным образом пришли к фашизму, либо чтобы попытаться наконец полностью овладеть сопротивляющимся им человеческим материалом, либо просто из-за отсутствия таланта. Но в маленькой комнатке, где она тогда находилась, не существовало ничего, кроме той яростной, будто исходившей от него силы и того гипнотического взгляда.
– С его внешностью, с его умом, – сказала Леди Л., – он сделал бы в восемнадцатом веке замечательную карьеру шарлатана и пошел бы еще дальше, чем Калиостро, Казанова, Сен-Жермен… К сожалению, век разума закончился, он же был идеалистом. Худшего для себя я не могла и представить.
Сэр Перси сидел подле нее на мраморной скамейке в конце аллеи, в нескольких шагах от дорожки, что вела к павильону… Он скрестил руки на набалдашнике трости и мрачно разглядывал свои ботинки. Он не испытывал ничего похожего с тех пор, как Маунтбаттен, последний вице-король, покинул Индию. Он был не то чтобы рассержен, от возмущения он просто оцепенел. И радостный смех веселившихся на лужайке детей лишь подчеркивал весь ужас истории, которую его вынуждала слушать их прабабушка.
– А потом? – спросил он надменным голосом. – Что случилось потом?
Леди Л. подавила улыбку. Бедняга Перси, вот уж действительно типичный для него вопрос. Но все же следовало его немного пощадить.
– Ну, мы проболтали всю ночь, – добродушно проговорила она.
Сэр Перси вздохнул с облегчением и впервые сделал легкое движение головой – жест, который с натяжкой можно было принять за знак одобрения.
Анетте не понадобилось много времени, чтобы понять, с каким человеком она имеет дело. Как только он начал говорить о свободе и равенстве, смешивая воедино правосудие и убийство, всеобщую любовь и разрушение, человеческое достоинство и бомбы, наугад швыряемые в толпу прохожих, она тотчас узнала знакомый мотив: все это она уже слышала. Только голос другой – и отличие было просто поразительным. Все теории, которые ее так утомляли, когда исходили из уст отца, казались ей благородными и прекрасными, когда излагались этим пылким голосом и с такой мужественностью и уверенностью. Она сразу поняла, что видел в ней революционер, и пустила в ход все свое женское обаяние, всю свою интуицию, чтобы казаться в его глазах такой, какой он ее себе представлял, такой, какой он хотел ее видеть: жертвой прогнившего общества, униженной и возмущенной душой, которая просто жаждала присоединиться к бунту, сражаться бок о бок с ним и его товарищами. Он был самое прекрасное, самое желанное из всего, что попадалось ей в жизни: не могло быть и речи о том, чтобы упустить такую неожиданную удачу. Она объяснила Арману, что ее отец отдал жизнь за марксистские убеждения. Да, да, и ей было всего лишь двенадцать, когда она начала ему помогать, разнося поджигательные памфлеты в корзине для белья Она лгала так убедительно и с такой легкостью вжилась в роль, что в итоге сама во все это почти поверила, и когда однажды, спустя несколько недель после их знакомства, привела Армана на могилу господина Будена, то искренне расплакалась – ведь она, в конце концов, потеряла родного отца.