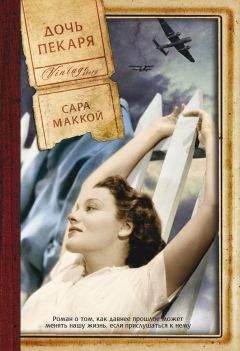– Мне может понадобиться дополнительная информация – я могу на вас рассчитывать? – спросила она, и он тут же продиктовал номер своего мобильного.
Несколькими неделями позже она лежала рядом с ним обнаженная, не понимая, что за девушка вселилась в ее тело. Это не Реба Адамс. Во всяком случае, не Реба Адамс из Ричмонда, штат Вирджиния. Та не легла бы в постель с незнакомцем. Ужас! Но эта девчонка как будто переродилась, стала совершенно другой, а Реба того и хотела. Так что она обвилась вокруг него и ткнулась подбородком в его загорелую грудь, прекрасно понимая, что в любой момент может встать и уйти. От этого было легко и радостно, и все же она не хотела уходить и не хотела, чтоб уходил он. Тогда и там ей хотелось, чтоб он остался. Он остался, и теперь она как перелетная птица, привязанная к голой скале.
Она нетерпеливо покачивала ногой. В животе урчало.
– Пока. – Рики поцеловал ее в затылок.
Она не обернулась.
Дверь открылась и захлопнулась, по голым лодыжкам потянуло ноябрьским холодком. Когда бело-зеленый пикап погранично-таможенной службы США проехал мимо окна, Реба вытащила торт. Чтобы не нарушать симметрию, отрезала по узкому тонкому ломтику от всех трех оставшихся кусков и облизала лезвие ножа.
В полдень Реба остановилась перед «Немецкой пекарней Элси» на Трейвуд-драйв. Магазинчик оказался меньше, чем она представляла. Над дверью деревянная резная вывеска: «Bäckerei»[4]. Несмотря на сильный ветер с гор Франклина, в воздухе витал аромат дрожжевого хлеба и медовой глазури. Реба застегнула воротник куртки до подбородка. Прохладный день для Эль-Пасо, градуса шестьдесят три[5].
Над дверью пекарни зазвенел колокольчик, и вышла темноволосая женщина за руку с мальчиком. Сынишка держал посыпанный солью брецель, уже наполовину сжеванный.
– А когда можно будет имбирный пряник?
– После обеда.
– А что на обед? – Пацан вгрызся в перекрестье брецеля.
– Менудо[6]. – Женщина покачала головой. – Только и на уме у тебя лопать да лопать. – И в облаке сладкой корицы и гвоздики протащила мальчика мимо.
Реба вошла в пекарню с твердым намерением доделать интервью. Звучал джаз. В углу мужчина за чашкой кофе с кексом читал газету. Стройная, но крепкая блондинка стряхивала хрустящие булочки с противня в корзину.
– Джейн! Я тебе сказала тмин, а ты семечки положила! – крикнули из-за занавеси, отделявшей кафе от кухни.
– Мам, у меня покупатель, – откликнулась Джейн, заложив за ухо седеющую прядь.
Реба узнала техасский акцент автоответчика.
– Что будете покупать? Вот свежайшая партия сегодняшних булочек, – Джейн кивнула на корзину.
– Спасибо, я… Меня зовут Реба Адамс. – Она сделала паузу, но Джейн не выказала ни проблеска узнавания. – Я оставила несколько сообщений на вашем автоответчике.
– Заказ торта?
– Нет. Я журналист из журнала «Сан-сити». Хотела взять интервью у Элси Радмори.
– Ой, извините. Я обычно проверяю сообщения по воскресеньям, но на прошлых выходных так и не добралась. – Блондинка повернулась к кухне: – Мам, тут к тебе пришли. – Потом побарабанила пальцами по кассе в такт джазовым трубам и повторила: – Мама!
– Я мешу тесто!
Грохот кастрюль.
Джейн виновато пожала плечами:
– Я сейчас. – И ушла за занавеску, туда, где виднелись стальные кастрюли и широкий дубовый пекарский стол.
Реба разглядывала золотистые батоны в корзинах на полках: роггенброт (белый ржаной), бауернброт (фермерский), доппельбек (дважды выпеченный), симонсброт (цельнозерновой), шварцвальдский торт и бротхен (пшеничные булочки), и булочки с маком, и брецели, и ржаной хлеб с луком. В стеклянной витрине рядами выстроились сласти: марципановые пирожные, печенье «амаретти», три вида тортов (вишневый чизкейк, торт с фундуком, кексы с корицей), миндально-медовые батончики, штрудели, и фруктовый кекс, и апельсиново-айвовый, и сырный с кремом, и Lebkuchen (имбирные пряники). На кассе объявление: «Праздничные торты на заказ».
У Ребы заурчало в животе. Она отвернулась от витрины и сосредоточилась на тонких веточках укропного дерева рядом с кассой. «Нельзя, нельзя», – напомнила она себе, порылась в сумке и сунула в рот фруктовую таблетку от изжоги. Вкус как у конфеты, радость как от конфеты.
Снова лязгнула кастрюля, послышалась отрывистая немецкая речь. Вернулась Джейн – руки и передник присыпаны мукой.
– Доделывает тарталетки. Кофе, пока ждете, мисс?
Реба помотала головой:
– Не надо. Я просто посижу.
Джейн двинулась к столикам, заметила, что пальцы в муке, встряхнула руками. Реба села, достала блокнот и диктофон. Она вытянет из Элси нужные цитаты и покончит с этим. Джейн протерла стекло витрины чем-то лавандовым и принялась за столики.
На стене над Ребой висела черно-белая фотография в рамке. На первый взгляд – Джейн с женщиной постарше, наверное, с Элси. Вот только одежда какая-то не такая. Младшая в длинной пелерине поверх белого платья, светлые волосы забраны вверх в пучок. Старшая – в дирндле[7] с узким лифом и вышитыми маргаритками. Старшая сложила руки и смотрела кротко, младшая выставила плечо и широко улыбалась; яркие глаза чуть насмешливо уставились на фотографа.
– Ома[8] и мама на Рождество 1944 года, – сказала Джейн.
Реба кивнула на фотографию:
– Заметно семейное сходство.
– Это Гармиш, конец войны. Она о детстве не распространяется. Вышла за папу несколько лет спустя, как только отменили запрет на братание с неприятелем. Он там стоял почти год с Военно-медицинским корпусом.
– Хорошая история, – сказала Реба. – Двое из совершенно разных миров, и вот так встретились.
Джейн взмахнула тряпкой.
– Да так всегда и бывает.
– Что?
– Любовь. – Она пожала плечами. – Сшибает – БАМ! – Она брызнула лавандой и вытерла стол.
Меньше всего Ребе хотелось говорить о любви, особенно с посторонними.
– Значит, ваш папа американец, а мама немка? – Она рисовала завитки в блокноте, надеясь, что Джейн просто ответит на ее вопросы, а сама больше ни о чем не спросит.
– Ага. Папа был техасец, родился тут и вырос. – При упоминании об отце глаза Джейн заблестели. – После войны подал заявление о переводе в Форт-Сэм-Хьюстон, а его отправили в Форт-Блисс. – Она рассмеялась. – Но папа всегда говорил, что любой уголок Техаса лучше Луизианы, Флориды или, боже упаси, проклятого Севера. – Она покачала головой и взглянула на Ребу: – У вас случайно нет родни в Нью-Йорке, Массачусетсе или где-нибудь там? Нынче по произношению не поймешь. Вы уж простите. У меня была стычка с производителем пиццы из Джерси. Такой гад оказался.
– Без обид, – сказала Реба.
Ее дальняя родственница поступила в университет Сиракуз и осталась в Нью-Йорке. Вся родня поражалась, как она выносит холодные зимы. Они считали, что люди от мороза портятся. Реба несколько раз бывала на Северо-Востоке, только летом. А так она любила тепло. Люди Юга всегда загорелые, улыбчивые, счастливые.
– Я с самого юга – из Вирджинии. Ричмонд, – сказала она.
– А сюда чего приехала?
– Потянуло на Дикий Запад, – пожала плечами Реба. – Приехала писать для «Сан-сити».
– Ты смотри-ка. Это они из такой дали людей нанимают? – Джейн повесила тряпку на плечо.
– Не совсем. Я думала, начну здесь и постепенно переберусь в Калифорнию – Лос-Анджелес, Санта-Барбара, Сан-Франциско. – Эта мечта до сих пор не давала ей покоя. Реба поерзала в кресле. – Два года прошло, а я еще тут. – Она откашлялась. Говорила все время она, а надо бы, чтоб заговорила Джейн.
– Понимаю, милая. – Джейн присела за столик и поставила лавандовый очиститель на пол. – Это, конечно, приграничный город, транзитный, переходный, но некоторые так никуда и не переходят. Зависают тут между «откуда» и «куда». Проходит несколько лет, и про «куда» никто уже не помнит. Так и остаются здесь.
– Это надо записать. – Реба постучала ручкой по блокноту. – Но вы-то здесь давно?
– Всю жизнь. Родилась в клинике «Бомон» в Форт-Блиссе.
– Тогда куда же вы направляетесь, если вы уже дома?
Джейн улыбнулась:
– Если где-то родились, это не значит, что вы дома. Иногда я вижу поезд – так бы и вскочила, уехала подальше. Вижу след от самолета – представляю: вот бы мне туда. Мама говорит, я мечтательница, фантазерка, выдумщица, – но как ни назови, лучше бы я такой не была. Ничего хорошего от этой мечтательности.
Программа Лебенсборн
Штайнхеринг, Германия
20 декабря 1944 года
Дорогая Элси,
После новостей о том, что Эстония сдалась Красной армии, я пишу это письмо в растущей тревоге за наши доблестные немецкие войска и с печалью о наших потерях. Здесь, в Штайнхёринге, в нашем общежитии и в квартирах по соседству, окна занавесили черным. Многие девушки потеряли родных – отцов и братьев. Погибло и несколько участников Программы Лебенсборн, в том числе отец моих двойняшек. Бедный Кристоф. Я узнала его лишь раз, прошлой весной. Ему не было и двадцати двух, мальчик с персиковым пушком, такой юный, а погиб. Меня бесят эти новые жертвы, это кровопролитие. Я понимаю, что нет лучшей гибели, чем за нашу Родину, но проклинаю иноземных дьяволов, проливших арийскую кровь. Нас не растопчут. Пламя нашего факела разгорится ярче, Германия одержит победу! Фюрер сказал: «Германский народ всегда будет верить в своих воинов». И наша вера прочна.