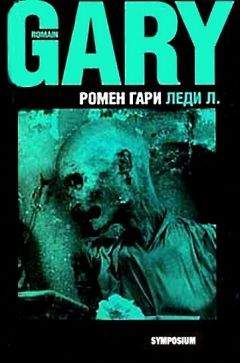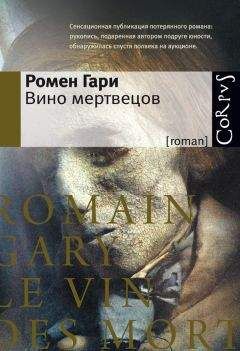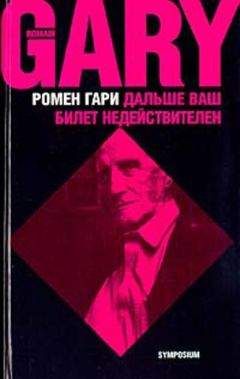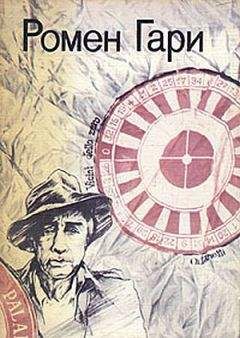– Меня зовут Габриэле Д’Аннунцио, и я поэт, – сказал он. – У меня к вам просьба, и я заранее прошу извинить, если вы сочтете ее несколько необычной. Не согласитесь ли вы, сударь, вы, мадемуазель, облагодетельствовать мой очаг?
Арман смерил его холодным взглядом:
– Боюсь, я не понимаю, о чем вы.
– Свой дом – где я живу один – я бы хотел предоставить в ваше распоряжение, чтобы любовь и красота освятили новое жилище поэта и одухотворили стихи, которые я собираюсь там писать…
Д’Аннунцио рассказывает эту историю иначе. По его версии, он предоставил дом влюбленной парочке без средств, встретившейся ему в Кампо Санто в Генуе в тот момент, когда они собирались вместе распроститься с жизнью. Прочитав впоследствии этот рассказ в одном из писем поэта, Леди Л. узнала, что ее представили молоденькой цветочницей с корзиной пармских фиалок в руке, которые она бросала на «холодную землю, готовую принять их последние поцелуи», и что она обладала «бесподобной красотой неукрощенного животного». Однако Леди Л. умела ценить поэтические вольности, и ей, в целом, было приятно это сравнение с «неукрощенным животным».
Вслед за тем произошли два события, побудившие Анетту принять жесточайшее с точки зрения логики решение, одним из самых удачных последствий которого было упрочение британской короны.
Однажды она по первому зову секретаря Глендейла отправилась к своему другу: Дики лежал в постели, лицо его посерело и осунулось, щеки ввалились, глаза еще больше сузились; к признакам возраста теперь прибавились еще следы болезни. В руке он держал миниатюру, на которую смотрел с неподдельной нежностью; это была работа Гольбейна, и уж ей-то смерть не грозила. Двое мужчин стояли у изголовья: знаменитый кардиолог Манзини и синьор Феличчи, антиквар из Милана. Как только оба итальянца ушли, Глендейл грустно улыбнулся самому прекрасному из всех творений, но это было живое творение, наделенное волей и независимым умом, что крайне осложняло жизнь почитателя искусства.
– Манзини дает мне год. Думаю, он меня недооценивает, его может продлиться и год, и два, и полгода. У моих племянников, наверное, уже текут слюнки, а молоток оценщика готов произвести четыре роковых бетховенских удара на аукционе… Согласны ли вы выйти за меня замуж?
– Но я не могу, не могу! – воскликнула она. – Вам этого никогда не понять…
– Анетта, свобода – это самое ценное, что есть на земле, так, по крайней мере, нас учили и учат все философы и все истинные революционеры. Вы не можете до конца своих дней оставаться рабой этой страсти. Если вы до сих пор не воспользовались уроками Армана, то вы просто недостойная ученица. Во всяком случае, в созданном им мире джунглей его идеалистическая страсть – этот тигр, как говорит Блейк, – в конце концов проглотит его, а вместе с ним и вас. Восстаньте против вашего тирана, если он не способен восстать против своего. Сбросьте иго. Освободитесь. Пусть даже для этого вам прядется бросить бомбу в своего безжалостного господина. Подумайте, дитя мое, и поскорее дайте мне ответ.
Она беззвучно заплакала, не зная, как быть, какому святому молиться. Она чувствовала, что это ее последний шанс и что времени у нее в обрез. Если Дики исчезнет, ничто не спасет ее от падения; однако она смогла только упрямо покачать головой.
Лишь несколько дней спустя судьба пришла к ней на помощь, навязав свое решение: она обнаружила, что беременна. Леди Л. не раз задавалась вопросом, как бы сложилась ее жизнь, если бы не это вмешательство Провидения: Болдини и Сарджент не написали бы ее портретов, род Глендейлов остался бы без наследника, английская церковь, империя и партия консерваторов потеряли бы несколько своих самых верных приверженцев, а Англия – одну из самых знатных своих дам.
– Как все-таки непредсказуема жизнь, – сказала она, мечтательно глядя на сэра Перси.
Лицо Поэта-Лауреата исказилось в гримасе недоверия; остановившись на дорожке, он сжал свою трость с такой силой, что Леди Л. на миг подумала, не начнет ли он размахивать ею в воздухе, чтобы разогнать воображаемых ехидных демонов, как бы окруживших его со всех сторон.
Как только исчезли последние сомнения относительно состояния ее организма, она начала действовать с железной решимостью, подавляя эмоции, даже мысли, и, что было особенно характерно для ее нового настроения, она не сказала Дики о своей беременности, несмотря на все доверие, которое к нему питала. Всячески избегая риска, она незамедлительно принялась бороться, жестоко я отчаянно, за будущее своего ребенка, с инстинктивным упрямством дикого зверя, повинующегося древнейшему закону природы.
Последняя встреча с Арманом состоялась на Боромейских островах на озере Лаго-Маджоре. В то время острога еще были собственностью семейства Боррилья, которое ее и пригласило. Арман, не испугавшись сильной волны, приплыл на свидание в лодке. Надев белое платье, Анетта, с зонтиком в руке, с рассвета ждала его на мраморной лесенке, которая вела к пристани частного порта. Он двинулся вслед за ней по дорожке, по обе стороны которой росли кусты роз: это были последние сентябрьские розы, с бархатисто-нежным запахом, который неизбежно приходит к цветам, так же как мудрость – к людям.
Она сообщила ему, что в октябре Глендейл намеревается закрыть виллу и увезти все драгоценности в Англию; поскольку Движение, как всегда, страдало от нехватки денег, это был их последний шанс поправить свои финансовые дела. Она обещала провести выходные на вилле у озера Комо; там будут и другие гости, но она подсыплет снотворное в их бокалы с вином, что же касается слуг, то укротить их не составит труда. Разумеется, вначале надо убедиться, что планы Глендейла не изменились.
Леди Л. до сих пор не могла забыть ту почти физическую душевную боль, которая разрывала ей сердце. Она помнила жужжание ос вокруг розового куста, охватившее ее ощущение глубокого, полного отчаяния и безысходности, а также почти яростной злобы – замысловатый коктейль чувств, где верх брал то гнев, холодный, ироничный, острый, как когти, то нежность, жалость, стремление защитить, спасти и убить, чтобы не мучиться, что совершенно сбивало ее с толку. Все осложнялось еще и тем, что Арман обнаружил такую нежность и признательность, такую ласку, выглядел таким веселым, преисполненным надежд, а она испытывала такое счастье, любуясь знакомыми чертами, сквозь которые, как уже казалось, проглядывали черты шевелившегося в ней ребенка, что, не в силах более терпеть эти противоречивые, лишавшие ее рассудка порывы, она бросилась в его объятия и разрыдалась у него на плече. Анетта уже была готова все ему простить и все рассказать, но, к счастью, прежде чем она успела произнести хоть слово, в ее друга снова вселился его бес. Юный маньяк пустился в пространные рассуждения о новой жизни, которая ждет человечество, освобожденное от всех цепей и избавленное от всех напастей; он пропел такую оду любви и верности ее сопернице, так реалистично и так убедительно расписывая испытания, которые ждут их впереди, что она лишь глубоко вздохнула, и вздох этот унес последние ее тревоги и сомнения.
– Кстати, только что сделано научное открытие, имеющее огромнейшее значение для перманентной революции, – подытожил Арман. – Взрывчатка, простая в изготовлении и в сотню раз мощнее всего того, что было известно до сих пор…
– Хорошая новость, – сказала она. – Как чудесно все складывается.
– Отныне мы сможем вершить поистине великие дела, Анетта. Горстки смельчаков будет достаточно. Взять власть у загнивающей инертной буржуазии – вполне по силам деятельному меньшинству. Мы победим.
Она прищурилась, нежно и шаловливо посмотрела на него. Ей тотчас вспомнился вкрадчивый, убеждающий голос ее старого искусителя: «Вы должны наконец восстать против своего тирана. Пора воспользоваться уроками Армана, иначе вы просто недостойная ученица…» Она отвернулась, улыбаясь лишь уголками губ, поигрывая на плече зонтиком, прикасаясь к алой розе кончиками пальцем в перчатках.
– Все наши товарищи считают, что это изобретение открывает перед нами новые перспективы…
– Не сомневаюсь, друг мой, – сказала она.
Теперь в ней не оставалось уже ничего, кроме иронии. Именно в этот момент, когда слезы еще подрагивали у нее на ресницах и она осторожно, кончиками пальцев приподнимала розу, разворачивая ее к пританцовывавшей осе, и родился театральный, язвительный и несколько жестокий персонаж Леди Л. Она еще раз повернулась к Арману и дольше обычного задержала взгляд на его лице, загадочную и мужественную гармонию которого могла отныне восстановить лишь по памяти. «Поистине Господь не должен был делать Своих врагов такими красавцами», – подумала она, вздохнув, и с неуловимо-кошачьей гибкостью тела, более заметной даже при неподвижности, чем в движении, коснулась ветки апельсинового дерева и вдруг явственно представила его жгучий и мрачный взгляд, устремленный на нее из-за решеток клетки.