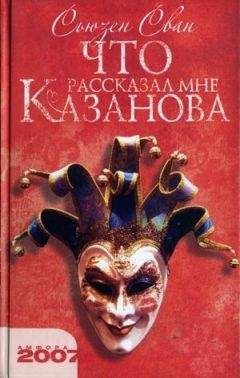Так что, мой дорогой друг, спасибо тебе за те дукаты, что обезопасили наш. путь. Рыбак вскоре прибудет и доставит, нас на фрегат, пришвартованный за Лидо. Судно везет груз стекла на остров Корфу. Затем мы поедем в Афины, где мисс Адамс окажется вдали от посягательств своего жениха. Мы провели последние десять дней, прячась в этом старом доме, и я многое узнал о положении, в которое попала наша беглянка.
Вечно твой друг,
Джакомо Казанова»Напротив Люси за столом сидела Ли и читала книгу о Крите, время от времени останавливаясь, чтобы что-то пометить в своем блокноте. Книга называлась «Раскапывая прошлое», и автором ее был некто Янис Сакелларакис. Интересно, не тот ли это археолог, чьим теориям мать бросила вызов? Люси вспомнила, как Китти упоминала это имя в связи с открытием останков, свидетельствующих о человеческих жертвоприношениях на Крите.
Человеческие жертвоприношения. Люси была склонна верить Сакелларакису: минойский Крит наверняка не был тем мирным, утонченным, артистическим обществом, каким изображала его Китти. Притворяясь, что поглощена чтением, девушка украдкой следила за выражением лица Ли. Поначалу она испытала настоящий шок, узнав, что ее мать – лесбиянка. Люси еще кричала тогда: «Это ты решила любить женщин, а не я! Почему я, интересно, должна смириться с твоим выбором?» Постепенно боль притупилась, однако Люси до сих пор не понимала, как мама могла пожертвовать их уютной жизнью ради вот этой женщины, сидящей сейчас напротив нее за столом? Ради зануды – толстухи, которая верила в милую сказочку о золотом веке матриархата?
Ли посмотрела на Люси.
– Интересный дневник?
– У меня сейчас голова занята другим.
– Честно говоря, у меня тоже.
И она снова склонилась над своими записями. В иллюминаторе у нее над головой разворачивалась панорама бирюзовых волн, врывающихся в сахарно-голубую зыбь Адриатики. Прошло совсем немного времени, и вот уже перед кораблем расстилалось Эгейское море, повсюду, насколько хватало глаз, подобно бездонному зеленому небу.
«21 июня 1797 года
Где-то в Адриатике. Новый мир и новая жизнь. Я пишу это, сидя на палубе фрегата, пользуясь переносным письменным прибором синьора Казановы. Он меряет шагами пространство рядом со мной: строгая фигура в сюртуке и шляпе. Он только что заметил, что я смотрю на него, и довольно поклонился.
Мы уже неделю в море, и на меня периодически накатывают острые приступы тоски по дому. Я боюсь, что никогда не увижу Квинси. Казанова извинился за трудное начало нашего путешествия и долгое ожидание в болотистой лагуне. Это было сделано с целью заставить поверить барона Вальдштейна, что его компаньон упал в канал и утонул после бессонной ночи, проведенной в игорном доме. Какое же облегчение почувствовали мы, когда наконец увидели рыбака, который должен был доставить нас на корабль. Фрегат уже раздувал паруса, потеряв надежду, что увидит сегодня своих пассажиров.
Синьор Казанова поощряет мое стремление писать дневник, надеясь, что это отвлечет меня от тоски по дому. Так что, мне пришла в голову мысль – уж не знаю, найдется ли когда-нибудь для этих строк читатель – описать свое детство. Я родилась в 1772 году, незадолго до революции, когда правила этикета еще были в почете. «Никогда не садись, пока тебе не предложат; ничего не проси; поменьше говори; бери соль только чистым ножом; если хочешь плюнуть, отойди в сторону», – постоянно твердил мне отец. Ребенком я носила ожерелье из волчьих клыков, чтобы отпугнуть оспу, а мое обучение началось в 1778 году, в Квинси, штат Массачусетс, спустя шесть лет после смерти моей матери и моего рождения. За мной присматривала женщина, которую я звала тетей, Абигейл Адамс, жена президента, известная своей добротой к родственницам. Несмотря на неудобства колониальной жизни, ей удалось привить мне любовь к принципам, честность и привычку полагаться только на себя, что и сформировало основу моего характера. Дома я читала Сенеку и Шекспира. Тетушка Эбби воспитывала во мне восхищение Сенекой, ибо он отвергал утверждение, что женщина – это только хрупкий сосуд для мужского семени. «Если бы женщины пожелали, – писал Сенека, – то они могли бы обладать той же силой, той же способностью совершать добрые дела; они переносят горе и страдание наравне с мужчинами, как будто подготовлены для этого».
Тетушка Эбби верила, что женщины равны мужчинам, и часто говорила, что если бы она родилась мужчиной, то стала бы пиратом. Но дядя Джон, несмотря на интерес его жены к философии, все-таки больше заботился о том, чтобы привить мне специфически женские навыки. Так что я, как и все девочки в Массачусетсе, училась шить и распевать псалмы из Книги псалмов Новой Англии в нашей конгрегационалистской церкви, а также каждое утро была вынуждена стоять, прислонившись спиной к доске, чтобы вырасти высокой и прямой. В моем случае это, похоже, сработало.
В те времена отец разводил сады, а я научилась бить острогой угрей вместе со своими кузенами и собирать хлопок в полях рядом с Квинси, а когда моя тетушка не могла свести концы с концами, я помогала ей продавать китайский фарфор заезжим торговцам. Было ужасно грустно наблюдать за этой борьбой, ведь американское правительство очень мало платило дяде Джону, но тетя Эбби показывала мне, что можно жить экономно. Когда я выросла, она научила меня, как справиться со своими сельскими замашками и спрятать мускулы под шелками, иными словами, сделала меня бостонской леди.
Она была рада, когда дядя Джон послал отца за границу с торговой миссией. Целых три месяца я наслаждалась жизнью, будучи его экономкой в старом доме Бенджамина Франклина в Пасси, пригороде Парижа. Однако сам отец был не слишком доволен, он никогда не доверял французам, и неважно, как он вслух отзывался об их революции. В глубине души, как и большинство его друзей, отец оставался верным британской короне. Но он скорее умер бы, чем допустил на деле подобную ересь.
Я благодарила тетушку Эбби за свою способность воспринимать французский образ жизни. Именно она дала мне понять, что вполне возможно полюбить французов, не предавая наших республиканских принципов, – это она хорошо усвоила ранее, когда несколько лет прожила вместе с дядей Джоном в Париже.
Что касается моего религиозного воспитания, то я получила его в конгрегационалистской церкви Квинси. Мы слушали воскресные проповеди, сидя на передних скамьях. Позади нас сидели торговцы и рабочие, а в самом конце церкви были расположены две секции, помеченные буквами «ЧM» и «ЧЖ» (чернокожие мужчины и чернокожие женщины).
Подозреваю, что особо сильной религиозной веры во мне нет. Возможно, это предопределено, так как я – дочь атеиста. После того как мама умерла, отец сказал, что Бог покинул его, а поэтому он сам покинет Бога, Мой родитель прекратил посещать церковь, и видения оставили его. Папа как-то рассказал мне, что видел лик Господа в комете Галлея – предупреждение о Судном дне. В другой раз наши отцы-основатели превратились прямо перед глазами отца в олицетворения семи грехов. Джефферсон стал тщеславием, Франклин – леностью, тогда как дядя Джон олицетворял гордость, фамильную слабость Адамсов.
Мрачное Замечание: Несколько часов назад я прекратила писать и расплакалась. Отец мертв, а моя тетя будет ужасно разочарована тем, что я нарушила Пятую Заповедь: чти отца своего и мать свою. Несмотря на все свои разговоры о пиратстве, Абигейл Адамс была очень сурова с теми из родственников, кто пренебрегал семейным долгом.
По крайней мере, я помогаю другу, странствуя. Я не смогла спасти отца или просветить его непреклонный ум, но сделаю все, чтобы помочь синьору Казанове найти Эме Дюбек де Ривери. Если Сенека говорит правду, а думаю, что он не лжет, то практика добродетели – это обязанность совершать хорошие поступки, не ожидая в ответ награды.
Главный Вопрос Дня: Вернусь ли я домой, в Америку, увижу ли я тетушку Эбби, кузенов Джона и Нэбби?
Выученный Урок: Свобода настолько близка к изгнанию, что, возможно, это вообще одно и то же.
23 июня 1797 года
Пристали в Корфу. Плохая погода надолго задержала нас в маленьком симпатичном портовом городишке. Чтобы скрасить вынужденное безделье, синьор Казанова в красках описывает свой побег из Свинцов другим пассажирам, которые, подобно мне, изнывают от скуки. Не упуская из виду ни единой подробности, мой спутник рассказывает, как он взломал крышу Герцогского дворца и только тут понял, что толпа увидит его и отца Бальби в лунном свете. Тогда он решил бежать после того, как часы пробьют полночь. Наши глаза расширялись от восторга, когда Казанова в лицах разыгрывал перед нами всю сцену: сперва он, стоя на четвереньках, уговаривал отца Бальби пересечь крышу, затем осторожно спустил его через окно, обвязав простыней, и, наконец, чуть не сорвался с парапета, стараясь протолкнуть лестницу в окно этажом ниже, зная, что священник уже готовится оставить его.