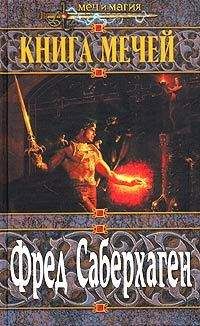Мой логопед, Джилл, тоже была необыкновенно доброй женщиной, изо всех сил старающейся помочь мне вырваться из тюрьмы моего молчания. Мне было почти девять, когда мы с ней начали заниматься, и с ее терпением и поддержкой я довольно быстро вернул способность произносить отдельные слова, состоящие из одного слога, но у меня все еще не получалось выстроить из них понятного предложения. Мы с ней знали, что значат разные странные звуки, вроде ворчаний и бульканий, но если бы я произнес их при моих одноклассниках, они бы только посмеялись и придумали мне новые прозвища. Она показывала мне картинки и пыталась помочь нарисовать и поговорить о том, что я на них видел, надеясь возобновить связи между тем, что я видел и слышал, и тем, что говорил. Когда Джилл поняла, как сильно нарушена эта связь между мозгом и ртом, она показала некоторые упражнения для языка и губ, которые помогут правильно произносить звуки. Я должен был произносить разные звуки, что было крайне не удобно, потому она держала мой язык ложечкой. Иногда мне хотелось сдаться и убежать. Если бы Джилл не была такой терпеливой и понимающей, я бы не смог пройти даже эту первую стадию.
Первое слово, которое я смог произнести, было «блин» («fuck»), отчего она подпрыгнула на месте и с удивлением подняла брови. В те дни это слово редко использовалось в культурном обществе, но вокруг меня его повторяли чаще других, и оно очень лаконично описывало то, что я чувствовал. К тому же его было легко произнести.
– Оу, – сказала она, быстро приходя в себя. – Что ж, значит, ты знаешь это слово.
И в этот день я словно прорвал блокаду, и остальные слова начали вылетать наружу, поначалу невнятно, сбиваясь в кучу, но становясь все четче в следующие месяцы, пока мышцы моего языка, горла и губ снова обретали силу.
– Я, – говорил я гордо, – Джо.
Долгое время у меня были проблемы с первыми буквами слов. «Дог» превращался в «ог», и Джилл показывала мне на своем примере, как правильно произносить звук «д», чтобы правильно выговорить слово. Я, должно быть, использовал совсем не те мышцы, потому что у меня опухла шея и заболело горло от напряженных попыток четко произнести эти несколько слов. Способность говорить мы используем каждый день, она воспринимается большинством из нас как должная, но когда пытаешься научиться ей заново, с нуля, – это невероятно сложная и тяжелая задача.
От отдельных слов мы перешли к предложениям. Джилл показывала мне картинки с разными ситуациями и просила описать, что на них изображено.
– Мама дома? – предполагал я.
– Мама входит через дверь, – поправляла Джилл, желая, чтобы я пытался правильно строить предложение, – потом идет на кухню и заваривает чай.
– Мама идти домой. Чай.
Годы молчания предполагают, что довольно трудно найти даже отдельные слова, не беспокоясь о том, как связать их вместе. Я словно учил иностранный язык, соединяя отдельные кусочки лексики, надеясь, что они будут иметь смысл для слушателя, но забывая, как создавать связи, придающие тонкость и оттенок тому, что мы говорим друг другу.
Джилл была бесконечно терпелива, постепенно возвращая мне голос. Но я не мог приспособиться к нормальному обществу не только из-за проблемы с речью. Из-за того, что мои навыки общения так долго не использовались, в то время как у других детей они ни на секунду не оставались без практики, а также из-за ужасного физического состояния (мои мускулы не разрабатывались годами), я совершенно не умел вести себя за столом и моя физическая координация оставляла желать лучшего. Я рос, привыкнув слизывать объедки с пола или ковыряться в них руками, так что весьма смутно представлял себе, как пользоваться ножом, вилкой или даже ложкой.
Мисс Мередит пришлось учить меня таким основным жизненным навыкам, равно как развивать мой мозг, обучая чтению, правописанию и математике. Я помнил, как Уолли говорил, что я смышленый парень и однажды далеко пойду, но я не был в этом уверен, когда старался изо всех сил овладеть простейшими навыками, которые другие дети выучили за первые год или два пребывания в школе.
Я хотел научиться стольким новым вещам, скольким смогу, иногда напряжение от того, чтобы просто не отставать от остальных, было почти невыносимым, а унижение от постоянных провалов в достижении даже моих скромных целей – тягостным и мучительным. Большинство детей не помнят, когда приобрели основные жизненные навыки, и почти уверены, что обладали ими всегда. Какой нормальный человек помнит, когда у него впервые получилось завязать шнурки, или почистить зубы, или съесть горох с тарелки, используя только вилку и нож? Я вот помню.
Мама убедила учителей, что корни всех моих проблем в развитии лежат в травме, которую я получил, став свидетелем смерти отца («мозги поджарились»). Складывалось впечатление, что меня преследуют эти воспоминания, потому что я все время рисовал эту трагедию, раскрашивая огонь в яркие цвета: оранжевый, желтый и красный, нажимая так сильно, что грифель моментально кончался. Было очевидно, что я одержим той минутой своей жизни и никогда не смогу преодолеть эту печаль и восстановить душевное равновесие. Большинство детей, переживших такую травму, проходят лечение и ходят к психотерапевтам, к ним относятся с добротой и уважением, пока они пытаются снова найти свое место в этом мире. Со мной же случилось прямо противоположное – ничего хорошего не происходило, никто из взрослых не пытался мне помочь забыть ужасный образ моего отца, бегающего по гаражу и объятого пламенем.
У мамы были готовы подробные и очаровательные ответы на любые вопросы, которые могли ей задать представители власти, и она так хорошо попрактиковалась в произнесении своих речей, что они всегда звучали правдоподобно. Когда ее спросили, почему я ем, как животное, она сказала, что пыталась научить меня вести себя за столом, но я отказался использовать столовые приборы и агрессивно хватал любую еду, которую ставили передо мной, разбрасывал вилки, ножи и ложки по комнате. Она не рассказывала о том, что иногда не давала мне пищу в течение нескольких дней, что заставляла есть меня с пола или из собачьей миски. Иногда, слушая ее объяснения, я с трудом верил собственной памяти, что все могло быть так ужасно, но как только оказывался дома, все возвращалось – мать снова превращалась в монстра, которого я всегда знал.
Но несмотря на все разочарования, препятствия и задержки, тяжелый труд, проделанный мисс Мередит и другими учителями, начал давать результаты. Я был свободен и имел возможность хотя бы несколько часов в день заниматься умственной деятельностью в обстановке, где чувствовал себя в безопасности и был почти уверен, что никто не нападет меня, не считая любителей подразнить. Поэтому вещи, которые казались мне бесформенными, когда я впервые вошел в класс, начали приобретать ясные очертания и наполняться хоть каким-то, пусть сначала туманным, смыслом.
Очень медленно, на протяжении месяцев, я начал догонять остальных детей, хотя им всегда удавалось быстро уйти вперед, когда мы начинали изучать что-то новое, ведь их знания имели более прочную базу, чем мои.
Старания Джилл тоже не пропали даром, и к тому времени, когда я должен был перейти в среднюю школу в возрасте одиннадцати лет, у меня получалось составлять полные предложения. Но слова все еще неожиданно покидали меня, если я чувствовал какое-то давление, и я начинал заикаться и запинаться, занимаясь их поиском.
Для меня стало огромным облегчением, когда я произнес первое предложение и увидел, что другие люди слышат меня и понимают, что я говорю. Иметь возможность почти свободно общаться с окружающим миром для меня было похоже на освобождение из тюрьмы в собственной голове. Впервые за многие годы внешний мир мог действительно слышать, что я хочу сказать, мог знать, о чем я думаю и что чувствую. Я больше не был немым предметом, недоразумением при общении, проблемой для учителей и социальных работников. Я мог реагировать на слова людей, рассказывать о своих идеях и пытаться вызвать у них улыбку или смех. Последнее давало мне самое приятное чувство, потому что, если люди смеялись, они не били меня и всегда был шанс, что им понравится бывать со мной, желая, чтобы я их еще поразвлекал. Наконец-то я мог отвечать на задаваемые вопросы, если хотел, хотя большинством вещей, хранящихся в моей голове, я не хотел ни с кем делиться.
Но тот факт, что я начал говорить и ходить в школу, как обычный ребенок, ни капли не изменил ситуацию, когда я возвращался домой во второй половине дня. Даже наоборот, мать стала еще жестче, чтобы быть уверенной, что я знаю свое место, потому что теперь я мог поговорить с другими людьми, описать или нарисовать часть своей жизни, проведенной в подвале. Она больше не могла полагаться на мою немоту, помогавшую ей скрывать правду. Она должна была убедиться, что у меня не осталось сомнений по поводу того, что случится со мной, если я не буду подчиняться каждому ее слову или если попытаюсь доставить ей какие-то неприятности. Но ей не о чем было волноваться; я все еще верил, что она способна убить меня, если придется или если я спровоцирую ее достаточно сильно. Я все еще боялся матери сильнее, чем кого– или чего-либо.