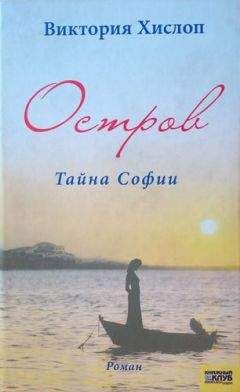– И ради нашей мамы, – тихо добавила из своего угла Мария.
Каждое сказанное Гиоргисом слово было чистой правдой. Зимой, когда горы покрывались снегом, а ветер завывал в кривых ветвях падубов, мужчины действительно с трудом выдерживали холод, прячась в пещерах. Там, в путанице горных ходов высоко над деревней, им приходилось довольствоваться теми каплями воды, что стекали со сталактитов, и у некоторых не хватало выносливости. Летом же, под палящим солнцем, они испытывали весь жар островного пекла, а когда пересыхали горные ручьи, жажда становилась еще более мучительной.
А такие вот листовки только усиливали решимость жителей Крита сопротивляться. Они и не думали сдаваться, они готовы были рисковать, не страшась последствий. Немцы все чаще и чаще появлялись в Плаке, обыскивая дома в поисках хоть каких-то следов партизан, вроде раций, и постоянно допрашивали Вангелиса Лидаки, потому что он, будучи владельцем бара, в дневное время оставался почти единственным мужчиной в деревне. Другие работали на склонах холмов или в море. А вот по ночам немцы никогда не являлись, и ясно было, что это заслуга самих критян: оккупанты боялись появляться где-нибудь после наступления темноты, они не желали бить ноги по камням местных троп, осознавая, что в темноте становятся слишком уязвимыми.
Однажды в сентябре, вечером, когда Гиоргис и Павлос сидели, как обычно, за своим столиком в углу бара, в зал вошли трое незнакомцев. Мужчины мельком глянули на них, но тут же вернулись к своему разговору, с ритмичным постукиванием перебирая четки. До оккупации и начала сопротивления в деревне редко появлялись посторонние люди, но теперь это стало обычным делом. Но один из чужаков направился прямиком к их столику.
– Отец… – тихо произнес он.
Павлос поднял голову и от изумления открыл рот. Это был Антонис, но совершенно не похожий на того полного идеалов мальчика, каким он уходил год назад. Одежда висела на нем, как на вешалке, а пояс был дважды обернут вокруг талии, чтобы удержать на месте штаны.
Лицо Павлоса все еще было мокрым от слез, когда прибежали Савина, Фотини и Ангелос. За ними моментально отправили сына Лидаки, и теперь происходило то, что и должно было происходить между любящими друг друга людьми, которые прежде не расставались даже на день. Но это была не только радость, но и боль, когда они увидели Антониса – тот выглядел так, словно умирал от голода, был изможден и постарел не на год, а на целое десятилетие с тех пор, как они видели его в последний раз.
С Антонисом пришли двое англичан. Но по их виду никто бы не догадался о том, что они иностранцы. Они загорели до черноты и отрастили экстравагантные усы, подстриженные по местной моде, и уже достаточно хорошо говорили по-гречески, чтобы общаться с местными. Англичане рассказали многое о том, как они сталкивались с вражескими солдатами, и, прикидываясь пастухами, выдавали себя за жителей Крита. Они за прошедший год несколько раз пересекали остров, одной из их задач было наблюдение за продвижением итальянских военных частей. Штаб-квартира итальянцев находилась в Неаполи, самом большом городе в префектуре Ласити, и тамошние части, похоже, только тем и занимались, что ели, пили и развлекались с местными проститутками. Но другие части расположились на западе острова, за их маневрами проследить было гораздо труднее.
Исстрадавшиеся желудки гостей быстро наполнились бараньим рагу, а головы у них закружились от цикудии, и они до поздней ночи рассказывали о том, что происходило вдали от Плаки.
– Ваш сын стал замечательным поваром, – сообщил Савине один из англичан. – Никто не умеет печь желудевые лепешки так, как он!
– Или готовить рагу из змей и дикого тимьяна! – пошутил второй.
– Ну, тогда нечего удивляться тому, что вы такие тощие, – откликнулась Савина. – До того как все это началось, Антонису разве что картошку приходилось иногда варить.
– Антонис, расскажи им, как мы надули фрицев, заставили их думать, что мы братья! – предложил один из англичан.
И вечер потек дальше; несмотря на тревогу и страх, люди с удовольствием смеялись над шутками. А потом из-за стойки бара достали лиры, и все запели. Пели мантинады, англичане пытались запомнить строки, говорившие о любви и смерти, борьбе и свободе, а их сердца и голоса почти полностью сливались с сердцами и голосами критян, перед которыми англичане были теперь в большом долгу.
Антонис провел ночь в родном доме, а иностранцев разместили у тех деревенских, кто готов был рискнуть. Они впервые за долгое время спали на чем-то, кроме твердой земли. Но поскольку уходить нужно было еще до рассвета, то роскошь набитых соломой тюфяков досталась им ненадолго, а утром они, натянув высокие сапоги и надев на лохматые головы черные фестончатые шапки, покинули деревню. По виду англичан даже местные не догадались бы, что эти двое – не коренные жители Крита. Ничто их не выдавало. Разве что кто-то мог, поддавшись соблазну, выдать их за вознаграждение…
А голод на Крите уже свирепствовал вовсю, и местные жители, пожалуй, готовы были принять то, что они называли «немецкими драхмами», за кое-какие сведения о том, где прячутся бойцы сопротивления. Нищета и голод могут испортить даже самых честных людей, а такие предательства приводили к самым страшным зверствам, какие только могут происходить во время войны, – к массовым казням и уничтожению целых деревень. Больных и старых сжигали прямо в их постелях, у мужчин отбирали оружие и хладнокровно их расстреливали. Опасность предательства была самой что ни на есть реальной, а это значило, что Антонис и ему подобные могли только изредка и ненадолго навещать родных, понимая, что их присутствие в деревне подвергает опасности ее жителей.
В течение всей войны единственным местом, которое действительно не страдало от немцев, оставалась Спиналонга, где прокаженные были защищены от наихудшей из всех болезней: от оккупации. Возможно, лепра и разрушала семьи и дружбу, но немцы куда более эффективно уничтожали все, к чему прикасались.
В результате оккупации поездки Николаоса Киритсиса в Плаку прекратились, потому что путешествия из Ираклиона и обратно без видимой необходимости рассматривались оккупантами как подозрительные. Это, конечно, огорчало Киритсиса, но он был вынужден на время оставить свои исследования; в его помощи нуждались раненые и умирающие, которых хватало в Ираклионе. Так отзывалось на людях это безумное вторжение. Теперь любой, кто хоть сколько-нибудь понимал в медицине, трудился с утра до ночи, помогая больным и искалеченным, накладывая повязки, борясь с переломами и леча заболевших дизентерией, туберкулезом, малярией и другими болезнями, которые были обычным явлением в полевых госпиталях. Возвращаясь по вечерам домой, Киритсис был настолько изможден, что и думать забыл о прокаженных, еще недавно представлявших собой его главную заботу.
Отсутствие доктора Киритсиса для обитателей Спиналонги было, пожалуй, наихудшим побочным эффектом войны. Все те месяцы, пока он еженедельно навещал остров, больные лелеяли надежду на будущее. А теперь снова единственной реальностью для них стало настоящее.
А вот поездки на остров Гиоргиса участились. Очень скоро он понял, что афиняне без труда могут позволить себе всю ту роскошь, какую они имели до войны, несмотря на то что им приходилось платить за это все больше и больше.
– Послушайте, – говорил Гиоргис своим друзьям, когда они сидели на берегу, занимаясь починкой сетей, – я был бы дураком, если бы стал задавать лишние вопросы. У них есть деньги, чтобы заплатить мне, так разве я вправе спрашивать, откуда они берут столько средств, чтобы покупать все на черном рынке?
– Но вокруг множество людей, у которых даже последняя горсть муки кончается! – возразил ему один из рыбаков.
Зависть к богатству афинян была главной темой и в баре, преобладая во всех разговорах.
– Почему они должны питаться лучше, чем мы? – резко спросил как-то Павлос. – Как это они могут позволить себе шоколад и хороший табак?
– У них есть деньги, вот и все, – ответил Гиоргис. – Хотя и нет свободы.
– Свобода! – фыркнул Лидаки. – Ты вот это называешь свободой? Нашу страну захватили проклятые германцы, с нашими юношами жестоко обращаются, наших стариков сжигают в собственных домах! Как раз там и есть настоящая свобода! – воскликнул он, тыча пальцем в сторону Спиналонги.
Гиоргис прекрасно понимал, что бессмысленно спорить с друзьями, и замолчал. Даже те, кто отлично знал Элени, теперь время от времени забывали, что и она тоже находится на том острове. Хотя иногда все-таки кто-нибудь невнятно бормотал извинения, понимая, что бестактно ведет себя при Гиоргисе. Но только он сам и доктор Лапакис знали, как все обстоит на самом деле. Впрочем, Гиоргис догадывался, что ему и половины не известно. Он ведь видел лишь вход в туннель да мощную стену, но он слышал от Элени много рассказов.