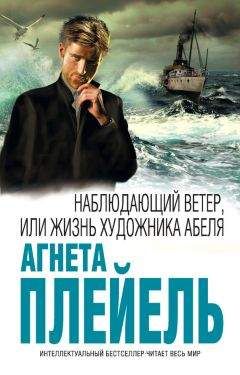Ответ пришел спустя несколько месяцев.
Тон адресованного Абелю письма был вполне доброжелательным. Оскар писал о погоде, климате, своих делах и о том, как скучает по их совместным морским прогулкам. В конце стоял постскриптум: передавай привет шхерам и «Триумфу».
Больше ничего. Все, что Оскар успел настрочить, когда у него выдалась свободная минутка.
Абелю нравилось в Грипсхольме, он любил запах гипса, свежей древесины и разговоры с рабочими. Там он измерял, вычерчивал, стучал молотком, выпиливал, носил камень и бревна, научился штукатурить.
Физический труд избавлял от ненужных мыслей. Осеннее солнце ложилось на стены золотистыми полосами. Присев отдохнуть в высокую оконную нишу, Абель иногда видел мелькнувшего в замерзшей траве зайца или косулю. А потом пришла зима, и выпал снег, положивший конец его сезонной работе. Теперь Абелю ее не хватало. Городские улицы казались ему тесными и грязными, а воздух – слишком тяжелым. В Грипсхольм он вернулся только в марте и снова оказался в кругу знакомых реставраторов и мастеровых.
Абель чувствовал себя одним из них, хотя и не работал с ними каждый день по причине занятости в художественной школе. Весной свет стал ярче и обнаружил новые трещины в стенах. Реставраторы трогали их пальцами, обмениваясь идеями и опытом. А затем подошел черед художников. Абель взобрался на высокую приставную лестницу. Сантиметр за сантиметром обрабатывал он поверхность стены, готовя ее к нанесению краски и сусального золота.
Наконец они занялись гирляндами. Теперь Абель работал в команде резчиков и лепщиков, которые почитали его как мастера и с ухмылкой подавали нужный инструмент. Абель чувствовал себя Рафаэлем в Сикстинской капелле. Разумеется, он всего лишь воспроизводил уже созданное, но делал это как настоящий художник. Он был реставратор – тот, кто сохраняет и восстанавливает.
Эти гирлянды снились ему каждую ночь. Они извивались и качались над ним, как змеи, а он бежал, цепляясь за них, огибая острые выступы скал и гладкие края бездонных пропастей. Гирлянды постоянно ускользали из рук. Проснувшись, Абель первым делом думал, что беспокоиться не о чем. Потому что с гирляндами все давно ясно вплоть до мельчайших деталей. Он выудил их идею из сознания другого художника и теперь воплощает заново. Фрагмент за фрагментом вырисовываются их очертания, словно проступают в чьей-то памяти.
Абель хорошо чувствовал неизвестного мастера, чьей кисти следовал, чьи движения были неотличимы от его собственных. С тревогой ждал он дня окончания работ, утолявших его непреодолимое желание писать и в то же время не бывших творчеством в полном смысле слова. Осознавая последнее, Абель мучился, обвиняя себя чуть ли не в измене.
И в то же время не мог понять, кому именно изменил.
Он должен создавать собственные полотна. Однако стоило Абелю об этом подумать, как он сразу вспоминал отца и его беззаветную преданность искусству. Чувствуя на себе взгляд Сульта, Абель смущался, и краски его многообразного мира гасли одна за другой, размываясь белизной.
В апреле он взял за привычку возвращаться из школы в компании одного из своих сокурсников. Юноша по фамилии Лундгрен был сыном резчика и продолжал дело отца. Тихий и медлительный, с широким, круглым лицом, он успел зарекомендовать себя хорошим мастером и принять участие во многих реставрационных работах.
Когда же выяснилось, что Лундгрен очень любит море, но никогда не ходил под парусом, Абель немедленно повел его к «Триумфу», дожидавшемуся своего часа на все тех же деревянных стапелях. Судно следовало привести в порядок и покрасить. Так впервые в жизни у Абеля появился помощник, а когда пришло время, они с Лундгреном спустили «Триумф» на воду. Они еще не раз выходили в море вместе, хотя и не так часто, потому что у обоих на суше дел было невпроворот.
В открытом море Лундгрен цепенел от страха, ведь он ничего не знал ни о ветрах, ни о рифах и не умел плавать. С ним было иначе, чем с Оскаром.
Я пишу, чтобы понять или, может, утешиться. У Октавио Паса я вычитала один интересный индейский миф.
Когда первые люди упали с небес, говорится в этом мифе, земная кора не выдержала и лопнула. Люди не смогли заделать трещину, через которую на землю хлынул хаос. Таким образом, падение рода человеческого началось с его появления на планете Земля. И с тех самых пор человеческая жизнь неотделима от трагедии.
Это красивый миф, странный и в то же время утешительный. Мексиканские индейцы понимали, что такое отчуждение. Собственно, Библия повествует нам о том же, хотя и в других образах. Несмотря на запрет, человек вкусил от древа познания добра и зла, через что в отличие от всей остальной природы стал осознавать сам себя. Прочее творение невинно, однако человек обособился от него, чем нанес себе неизлечимую рану.
Теперь он тоскует – по чему? По остальному творению или собственной невинности? Уже в момент грехопадения человек знал, что он чужой в этом мире, о чем напрямую сказано в индейском мифе. Это он нарушил целостность Земли и ее извечный порядок.
И с этого момента он не в ладах с собой. Он принес в мир насилие. Что было до того? Лев с ягненком… Но это преступление сделало человека человеком, образом и подобием Божиим. Если бы не оно, человек не мог бы различать добро и зло, а потому насилие священно. Одновременно с ним в мир вошло прощение и милосердие. И теперь человек должен примириться с собой, вернуть утраченную целостность. Конечно же, нарушение запрета изначально входило в планы Создателя. И Господь лицемерил, когда грозил человеку смертью.
Потому что человек не умер. И змей с раздвоенным языком говорил ему правду. За это гностики, и не только они, почитали змея священным зверем. Он – предвестник преступления, рода человеческого и всепрощения. Библия лишь по-своему варьирует тему отпадения человека от природы и долгого и полного опасностей возвращения к самому себе, то есть к Богу, – мысль, вероятно, еретическая, но тем не менее.
Он создал человека по своему образу и подобию, то есть творцом. Он дал ему возможность выбирать – поступок, сам по себе исполненный великодушия, однако имевший неоднозначные последствия. И человек стал бояться сам себя. Мексиканские индейцы хорошо это чувствовали. Человек вторгся в мир насильственным образом, покинув рай, или лоно природы-матери, что не могло обойтись без родовой травмы.
То же самое происходит и в жизни каждого – в частности, в моей и дедушки Абеля. И я пытаюсь уловить момент его отпадения от себя самого. Думаю, это произошло, когда он прочитал в газете объявление о смерти Сары. Это было в июне, как раз накануне праздника летнего солнцестояния; тогда Абель почувствовал, что руки его дрожат.
Итак, молодая женщина умерла, оставив младенца на руках безутешного супруга. В квартире на Кюнгсбругатан было тихо. Родители Абеля, как всегда, уехали на острова. Вероятно, он планировал посвятить это время живописи. Абель посмотрел на свои руки. Большие и сильные, они огрубели и покрылись трещинами за время реставрационных работ в Грипсхольме.
Но в этот момент Абель увидел другое: это были руки убийцы. Да, они могли бы задушить. Абелю стало страшно. Волна безымянного ужаса поднялась откуда-то изнутри, и Абеля прошиб озноб, несмотря на июньскую жару.
Позже они с Лундгреном еще не раз выходили в море на лодке под парусом.
А потом пришел черед Эстрид.
Тот день Абель посвятил работе.
Он поднялся из-за стола и прошелся по комнате. В лившемся из окон свете белые простыни, наброшенные на мебель, походили на саваны. В квартире пахло смертью, и Абелю это нравилось.
Он направился в отцовскую мастерскую. Солнце ручейками растекалось по половицам. Кисти и тюбики с краской были убраны в футляры и коробки, вдоль стен стояли мольберты с чистыми холстами. Абель выдвинул один из них. Кто он такой, в конце концов, чтобы судить брата? Оскар выбрал свой путь, невзирая ни на что.
Но молодая женщина умерла. Абель почувствовал пустоту внутри, и голова снова закружилась. Именно поэтому он должен писать. Никто не может ему помешать. Абель покрепче прикрутил холст к отцовскому мольберту, достал кисти и терпентин и вытащил ящик с красками. Выбрав нужные, он решительно нанес их на полотно. Абель поступил правильно, это было единственное, что ему хотелось сделать. Он считал брата убийцей и именно поэтому должен был писать.
Он оставит школу, дом, родителей и пойдет своей дорогой, наплевав на всех.
Как Оскар, да, как Оскар.
Абель писал весь день без перерыва.
Это походило на одержимость, уже забытое опьянение. Через открытое окно с видом на пролив в комнату проникал сладковатый запах зелени. С другого берега доносились звуки аккордеона и голоса. Абель думал о том, что уничтожит глухонемого, с его молчанием и всепроникающей белизной. Он больше не боялся. Краски на холсте горели. Абель писал ландшафт, которого никогда не видел.