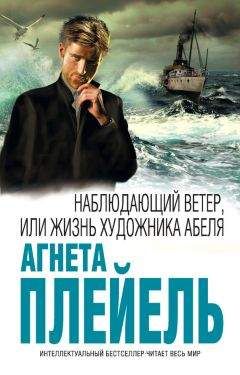Тем не менее сегодня утром, устраиваясь на палубе катера и окидывая взглядом окрестные заливы и мысы, я поймала себя на том, что мои поиски – не более чем попытка усмотреть в своих ощущениях нечто типическое. Как иначе назвать это навязчивое желание вписаться в круг соотечественников, построивших в северном уголке Европы почти идеально организованное общество с четким стремлением к централизму, порядку и тотальному контролю?
Что, собственно, связывает нас с остальной Европой – более грязной, менее упорядоченной и, возможно, менее свободной – и со всем остальным миром?
Об этом я думала утром, оглядывая собравшуюся на катере компанию. Сегодня среда, поэтому пассажиров было немного. Прямо передо мной, уткнув глаза в книгу, сидела юная девушка, без сомнения, шведка, с мягкими губами и меланхоличным взглядом. Чуть поодаль мужчина средних лет занимался какими-то деловыми бумагами. Вероятно, сразу по окончании прогулки он отнесет их в офис в своем аккуратном «дипломате». Слева от него расположилась белокурая молодая пара, оба лет тридцати с небольшим. Он читал «Дагенс нюхетер»[5], которую купил в Вакехольме. Она доставала из пакета бутерброды для двоих маленьких детей, которые, демонстрируя хорошее воспитание, со спокойным любопытством смотрели на воду.
Все присутствующие как будто целиком и полностью вписались в жизнь, каждый двигался к намеченной цели, и сегодняшний день никому из них не сулил неожиданностей. Это внушало одновременно покой и ужас. Это казалось невозможным.
Однако все мы были свободные люди. Мы предъявили билеты или другие проездные документы и отчалили, окутанные легким белым туманом, ровно в девять часов утра, когда наше время никем не контролировалось и принадлежало только нам.
Был ли это момент свободы?
И что стало с нашей свободой после того, как мы сошли на берег в Стокгольме?
У дедушки были самые большие руки, какие я когда-либо видела в своей жизни. Жилистые и сильные, они не изменяли ему до глубокой старости. А умер дедушка за неделю до своего девяностолетия.
Эльхольмсвик к тому времени уже продали. Дедушка с бабушкой жили в небольшой двухкомнатной квартире в Йэрдете[6]. Дед лежал в Каролинской больнице. Гангрена. Ему грозила ампутация ноги. Рядом с ним были бабушка и дочь Си, моя мама.
Никто не мог представить себе дедушку одноногим. Си с бабушкой и умоляли, и требовали, однако вердикт врачей был окончательным: нога или жизнь. Дедушку Абеля так и не удалось склонить к обмену, потому он умер.
Это была красивая смерть, Си часто ее вспоминала. Время от времени дедушка терял сознание, но когда оно возвращалось к нему, рассуждал здраво. Крепкие пальцы беспокойно мяли край простыни, и тогда Си взяла его за руку.
– Почему ты так добра ко мне? – спросил ее дедушка Абель.
– Но я о тебе забочусь, – ответила Си.
– Да, дорогая, – закивал дедушка Абель. – Да, дорогая, должно быть, это и есть любовь.
За несколько мгновений до смерти он стих. Потом приподнялся на подушках и принялся водить в воздухе руками, словно что-то рисовал.
– О! Как это прекрасно! Какая красота!
– Что прекрасно? Где? Расскажи! – попросила Си.
Дедушка как будто даже расстроился, что она его не поняла.
– Неужели ты не видишь? – возмутился он. – Неужели вы не видите? – И еще раз взмахнул руками.
Он взошел на смерть, как на корабль, умер, переживая прекрасное. «Вера, надежда, любовь» – вот его последние слова, которыми он, по-видимому, хотел утешить бабушку и Си.
До последнего вздоха дедушка пользовался свободой, доступной разве что детям. Позже я спрашивала маму, почему они с бабушкой не уговорили его на операцию, ведь на кону стояла его жизнь. Мама промолчала, потому что ответ был очевиден.
С большими руками деда у меня связаны разные воспоминания, в том числе и очень неприятные.
Однажды вся наша семья собралась за дубовым обеденным столом с массивными ножками в форме львиных лап – дедушкиным шедевром, идею которого он подсмотрел в Историческом музее.
Все были в сборе: дяди и тети, дедушки, кузины и голландские родственники. Я надела новый шерстяной джемпер, темно-синий, с узорами на груди, который связала мне бабушка. Дедушка, как обычно, потягивал из бокала смесь портера и «Пилзнера». Внезапно за столом стало тихо. Я подняла глаза.
Первое, что я увидела, была огромная дедушкина рука. Она зависла прямо надо мной. Я поняла, что должно произойти нечто ужасное. Дедушка ткнул мне в грудь средним и указательным пальцами.
– А это что? – раздался громоподобный голос.
Я посмотрела на джемпер. В этот момент дедушкин палец уперся мне в грудь, в один из маленьких и упругих, словно резиновых, шариков, с некоторых пор выпиравших у меня под одеждой. Я съежилась в комок, но дедушка не собирался убирать руку. Она висела передо мной целую вечность. Вселенная была создана из космической пыли, успела пройти все трансформации и достичь нынешнего состояния, прежде чем дедушкина рука наконец опустилась.
Все засмеялись, а я вжалась в стул от стыда и обиды. Будь у меня тогда в руке хлебный нож, я не задумываясь срезала бы проклятые шарики и бросила их в тарелку с индонезийским рисом, рискуя навлечь на себя еще большее внимание публики.
Но в тот момент я взглянула на свою грудь другими глазами. Ткнув в нее пальцем, дедушка словно создал ее заново. И мне понадобилось полжизни, чтобы понять, что на самом деле дедушка находил приятным предмет, на который указал в тот вечер.
Дед покинул Швецию в двадцать один год и ни разу не возвращался, пока ему не исполнилось пятьдесят. Он был сыном художника – мариниста, как тот называл себя сам, – рисовавшего корабли, берега и волны, и пошел по стопам отца. Вместе с дедушкой на Яву уехал его брат Оскар.
– Ну и каково это, быть женатым на туземке?
Такой вопрос с невинным видом задала дедушке моя сестра во время зимних каникул. Мы с ней буквально только что сошли с поезда, на котором прибыли в Эльхольмсвик из Стокгольма.
Похожие на кувалды дедушкины кулаки покоились на дубовой столешнице. Бабушка быстро склонилась над тарелкой. Ее черные волосы, связанные на затылке узлом, блестели в лучах бледного январского солнца. Дедушка поднял руку и обрушил ее на стол, словно молот Тора. Послышался звон фарфора. Сестра вжала голову в плечи и скосила глаза на деда. Все замерли в ожидании грозы.
И она не замедлила разразиться. Прошло не меньше четверти часа после того, как сестра, изгнанная из-за стола с пылающим от пощечины лицом, заперлась в холодной туалетной комнате, прежде чем раздался голос деда:
– Ваша бабушка не туземка.
Сестра жалобно скулила за стенкой, а я не без удивления открыла для себя, что быть туземкой позорно.
Я посмотрела на бабушкино круглое, почти коричневое лицо и блестящие черные глаза под полуопущенными веками. Она не улыбалась. Бабушка походила на туземку, но не была ею. Только не в этом доме.
Дедушка стих. От волнения он пролил себе на рубаху немного соуса и теперь подтирал его салфеткой.
Рядом со своим гигантом-мужем бабушка казалась совсем крошкой. Я помню ее изящный прямой нос с легкой горбинкой и блестящие черные волосы, которые она ни разу в жизни не подрезала. В молодости они доставали бабушке почти до колен, а под старость – только до середины спины. Я не раз видела, как она убирает волосы на ночь, заплетая в рыхлую косу. Наутро бабушка несколькими быстрыми движениями снова завязывала их в узел, подкалывая шпильками, в которых, по-видимому, не было необходимости. Она зачесывала их назад, не оставляя пробора – традиционная яванская прическа под названием «конде». На фотографиях так выглядели только коренные яванки. Голландские родственники, тетя Труус или тетя Лейда, носили самые обыкновенные прически или делали перманент. Зачем было бабушке лишний раз подчеркивать свое происхождение, которого она стыдилась? Я не знаю.
Бабушка не была туземкой, хотя и родилась в Сурабаи, как и ее дочь Си. Старые фотографии представляют ее с высоко, по тогдашней моде, подобранными волосами. В молодости бабушка носила длинные белые платья с кружевными оборками. На одном из снимков она улыбается, прикрывая рот веером и слегка склонив голову набок.
Зимой она днями напролет сидела в углу на диване, рядом с радиоприемником. На овальном столике лежали журналы «Аллерс» и «Домохозяйка». Бабушка все время вязала. Я помню ее маленькие, как у девочки, руки. Когда мне было девять или десять лет, мы как-то сравнили наши ладони, и они оказались одинаковыми.
– Только твои молодые, – вздохнула бабушка.
Потом она ущипнула себя возле костяшек пальцев. Кожа не сразу вернулась в первоначальное состояние, но образовала складку, медленно распрямлявшуюся на наших глазах. Когда я ущипнула себя в том же месте, ничего подобного не произошло.
– Ты думаешь по-шведски?
– Да, ведь это мой язык. Я говорю по-шведски вот уже двадцать пять лет.