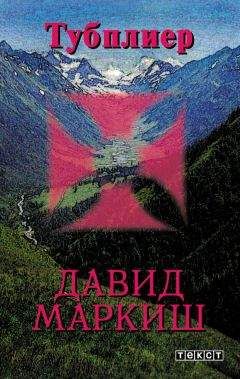А больше почти ничего и не вспоминалось, не всплывало. Десятки газетных командировок, поездок по всей стране, по ее дивным захолустным углам не хотелось восстанавливать в деталях: восторг открытия, однажды пережитый, не повторить. Тянь-Шань, где на переправе его смыло с седла горным потоком и он чудом спасся, набитая мошкой под завязку сибирская тайга, белые поля ледовитой Амдермы, заросшие зеленым лесным мехом Карпаты – все это, полустертое ветром времени, осталось валяться по обочинам пути, ведущего в тупик последней ночи.
Отчетливей всего в обозримом пространстве коричневел, взбираясь на плечо горы по левую сторону урочища Габдано, ваххабитский аул с украденной в Аравии книгой Авиценны – может, оттого, что эти неприступные места располагались неподалеку, куда ближе к Джуйским озерам, чем Амдерма во льду. Вон там спал, подстелив бурку, книголюб Джабраил у входа в родной аул, пораженный чумой, и красавица Патимат спускалась к нему певучей походкой по козьей тропе. Может, не на эти озера, а в Габдано, к черным старикам с серебряными бородами и длинными кинжалами следовало идти за смертью Владу Гордину? К недоверчивым старикам, живущим на своем каменном пятачке нездешней жизнью и в упор не видящим никакой власти, кроме Высшей? Они, наверно, и умирают по-своему, на свой манер. Во всяком случае, кладбища не видно было в Габдано, как будто люди там напрямую переходят из этого мира в тот, другой. Идут, опираясь на свои зонтики, отпахивают калитку в сложенной из камней стене – и переходят. Никто им не может в этом помешать: ни майор КГБ в райцентре, ни Хрущев в Кремле. За свою немного странную свободу они готовы воевать, не зная сомнений, с целым светом. Интересное место Габдано – но, в отличие от тех стариков, Влад Гордин сомневался во многом и считал это естественным проявлением жизни. Вспомнив аул и строгого потомка вороватого Джабраила, сидевшего на солдатской койке под саудовским календарем, Влад усомнился в том, что для перехода в иной мир Джуйские озера в чем-то уступают горному оплоту ваххабитов. Озера – место тоже вполне подходящее, и совершенное безлюдье соответствует приближающейся развязке. Меньше всего Владу хотелось бы, чтобы кто-то в туристской войлочной шляпе и с рюкзаком сюда сейчас явился и стал приставать с разговорами. Этого только не хватало… Но этого и не случилось.
В Москве лил летний дождь, стремительный и недолгий. Шустрые ручьи, подпрыгивая и спотыкаясь, добегали до сточных люков и проваливались без следа под асфальт. Ругаясь и смеясь, бежали люди, прикрывая головы портфелями и газетами. Ливень вызывал скорее восторг, чем досаду: ну хлещет, ну дают небеса!
В окне своего рабочего кабинета полковник Шумяков видел свинцовую под дождем Лубянскую площадь с фаллическим Дзержинским посредине. Мысли полковника витали вдалеке от чугунного рыцаря революции: дождь, разогнавший людей с площади, нес благодать полковничьему дачному огороду, на грядках которого томились от недопоя огурцы и помидоры, капуста и картошка. Воспоминания о даче и уже не запредельном, сразу же после выхода на пенсию, туда переезде всегда нежно трогали душу чекиста.
Дождь подоспел ко времени, да и день в целом складывался удачно. Результаты инспекционной командировки на Кавказ, в этот самый Эпчик, ни у кого на Лубянке не вызвали нареканий: сброс вождя договорено было характеризовать как диверсию одиночки и списать ее на уголовного бродягу Мусу, уже, возможно, и покойного. Дело о подпольном профсоюзе решили, на основании заключения специалистов-психиатров из Института Сербского, спустить на тормозах ввиду невменяемости фигурантов. И вклад полковника Шумякова во всю эту неприятную историю ограничивался служебной докладной запиской начальству, предуведомленному и согласному с выводами автора. Этот документ он и намеревался составить сегодня к обеду в окончательной редакции.
В составлении докладных полковник Шумяков был большим докой, его умение ставили в пример другим сотрудникам, не таким искусным. Перекладывая и сортируя бумажки по «Делу о нелегальном профсоюзе», полковник пришел к выводу, что расписывание роли Сергея Игнатьева, активного члена антисоветского кружка Петуховой и специалиста по ганзейской торговле, лишь замутит содержание записки, уведет руководство от существа дела. Игнатьевым должны заниматься другие офицеры, из другого отдела – вот пусть они им и занимаются. В туберкулезном учреждении «Самшитовая роща» этот Игнатьев, согласно донесениям осведомителя, не клеветал на культурно-просветительскую политику партии, а плел небылицы о каких-то древних монахах и зарытых кладах еврейского царя Соломона. И то, что он у Петуховой говорит, – это уже совсем другой разговор.
В другом отделе наводящие разъяснения Шумякова приняли с пониманием: да, конечно, Игнатьев – их объект, они всю группу держат под неослабным контролем. И ганзеец, как только он вернется в Москву, будет взят в усиленную разработку. А покамест имеет смысл для воспитательного устрашения провести беседу с кем-нибудь из петуховцев. Саму Петухову трогать не надо: она может с перепугу прикрыть свой кружок и таким образом лишить надзирающих офицеров ценного источника информации о настроениях в среде творческой интеллигенции, такой неустойчивой. Это уже не говоря о том, что в случае закрытия петуховского кружка ни в чем не повинных офицеров бросят на новый участок работы, который, вполне может случиться, окажется куда менее просвеченным и спокойным.
Мику Углича продуманно вызвали для беседы на Малую Лубянку – само название этой улицы наводило на обывателя ужас и трепет. Мика явился с медицинской справкой в руке, там было указано, что в случае эмоционального стресса предъявитель справки утрачивает дар речи. Надзирающие за кружком офицеры, числом три, искренне подивились богатству великого и могучего русского языка: вместо того чтобы написать «язык отнимается со страху», пишут «утрачивает дар речи». Подивившись, офицеры принялись орать и бить кулаками по столу, и перепуганный до полусмерти Мика Углич только дергался на своем стуле и неразборчиво вякал. Глаза его утратили судачье выражение и наполнились печалью. Офицеры, впрочем, не имели намерения переходить к активным действиям и молотить кулаками своего робкого собеседника: прямое применение силы по отношению к приглашенным на воспитательную беседу было недавно отменено.
После небольшого перерыва – офицеры, топая, вышли, гость остался один в комнате – дар речи вернулся к Мике Угличу, он выпил воды и прочистил горло. Офицеры тотчас снова появились и как ни в чем не бывало завели разговор о Сергее Игнатьеве: что да как, да коренной ли он москвич, да любит ли анекдоты рассказывать и слушать? Пример приведите, один или два. Вспоминайте, вспоминайте! А то ведь у нас время есть, можем тут и до завтра просидеть.
Мика старался вспомнить, путался и вздыхал. Недовольные офицеры покрикивали. Из-за наглухо закрытых и плотно занавешенных окон доносился уличный шум Малой Лубянки – свобода была рядом. Мика Углич вымученно гадал, что такого мог натворить Сережа Игнатьев в туберкулезном санатории, но спросить боялся.
Из офицерских расспросов и реплик следовало, что за вызывающее, антисоветское поведение Игнатьева несла ответственность и Лира Петухова, и все ее друзья-приятели, и прежде всего сам Мика, приглашенный сюда для беседы. Обвинение в антисоветчине и обещание продержать на Лубянке до утра действовали на него угнетающе, он сердился на застрявшего где-то между этим проклятым Эпчиком и Москвой Сережу Игнатьева, отдуваться за которого теперь приходилось ему, Мике. А офицеры размахивали перед носом Мики Углича какой-то папкой и читали вслух отрывки из писем ганзейца Лире Петуховой, звучавшие в этом лубянском кабинете вполне зловеще.
Мученье закончилось так же внезапно, как и началось. Гостю вручили пропуск на выход, и он побрел по коридору на тряпичных ногах. Слова, сказанные напоследок, стояли колом в его ушах: «Мы вам собираться не запрещаем, но советуем запомнить: за антисоветские сборища вы будете наказаны по всей строгости нашего социалистического закона».
И прошел день над разноцветными, как в глазке калейдоскопа, Джуйскими озерами. Большую часть дня Влад Гордин провалялся на своем мешке, поднимаясь лишь для того, чтобы похлебать озерной воды: после вчерашнего пьянства жажда его мучила. Полузабытье овладело его сознанием, мир вокруг себя он видел размытым, и это ему нравилось: смутная картина нигде не задерживала его взгляд и не останавливала внимания ни на чем. Да и собственные его чувства, скрытые в глубине то ли души, то ли неба, натянутого без единой морщинки над головой, были сглажены, и он испытывал странную благодарность к тому, кто это все так сегодня устроил. То, что должно было случиться ночью, словно бы уже наступило и произошло, Влад терпеливо искал в расширившемся до бесконечности поле зрения новые, незнакомые ему очертания, но не находил. Он ни о чем не сожалел и не желал оглядываться назад. Даже чувство вины перед той обманутой женщиной, родившей на свет незваного ребенка, заметно померкло: обманутая осталась далеко позади, в другом мире, на другом свете. Бог с ней…
Ветерок угомонился, и комары нагрянули, как из прорехи. Влад, размахивая руками, сначала отгонял их, а потом бросил: что за разница, с каким лицом – бугристым от укусов этих тварей или гладким – переберется он через последнюю границу! Но оборонительные резкие взмахи и отвратительный писк насекомых вывели его из состояния приятного отчуждения. Немного раздраженный переменой настроения, он повернулся со спины на бок и подложил сведенные ладони под щеку. Назойливо зудели комары. Почти вплотную подошла лошадь с порожней торбой на шее и глядела. Можно было догадаться, что она хочет в обжитое стойло, домой. Это близкое присутствие стреноженной лошади, такое земное, было некстати и выбивалось из ряда, и Влад досадливо пожалел животное: оно-то тут при чем! Однако подниматься и распутывать лошади ноги даже и не подумал.