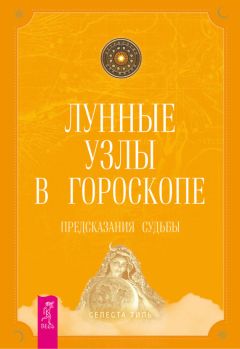– Надо же, не думала, какой огромный… Ого! Ничего себе! Это то, что я думаю?
– Хепплуайт,[1] да, а это кресло работы мастерской Фрэнка Ллойда Уайта – сделано в Чикаго в тысяча девятьсот седьмом.
Он показал гостье большую спальню и смежную с ней спальню для эмота.
– Неплохо устроено. – Карин уже настолько расслабилась, что не боялась говорить банальности.
Тревис мягко улыбнулся:
– Это еще не все.
Они поднялись по крутой и высокой как «американские горки» лестнице на один этаж, где располагались еще две смежные комнаты – одна для «взрослого», вторая – для его спутника, а этажом выше – еще две.
– Это то, чего я хотел после… ну… в общем, я решил, что лучше, если ночами Брайон будет всегда рядом – чтобы приободрить меня, когда понадобится, обнять, да мало ли что. Знаю, большинство отправляет своих эмотов ночевать в спальню под крышей, но… понимаешь…
– Понимаю, – сказала Карин, и это было правдой.
Они выпили марочного бренди, сделанного в год обвала на Уолл-стрит. Тревис закурил вожделенную «Параграс перфекто». На антикварном патефоне «Виктрола» поскрипывала антикварная же пластинка – Шаляпин, «Песня бурлака». Они сидели лицом друг к другу в подходящих по стилю креслах эпохи арт-деко с полукруглыми спинками, инкрустированными черепаховым панцирем. В глубине комнаты, скрытые полутьмой, на огромной тахте развалились их эмоты, прихлебывая сладкий лимонад и робко, как подростки, поглядывая друг на друга.
Карин захотелось, чтобы этот вечер длился вечно. Она уже выпила три порции бренди, и это после двух бутылок вина на двоих и порции мартини с водкой в баре «Ройялтона». Однако пьяной она себя не чувствовала – скорее наоборот. Точно, переборов единым махом страх перед свиданиями, она стала свободной, открытой для иной близости. Карин решила: раз можно в любой момент позвать Джейн, ничего не случится, если она позволит себе такое интимное, по сути, дело, как ночевка в доме приятеля.
– Ты, вижу, устала, – заметил Тревис, когда Шаляпин на скрипучей пластинке несколько раз подряд пропел о волжских просторах, и Ma Рей ни по меньшей мере трижды провыла «Титаник мэн блюз». – Если хочешь, Брайон отведет вас с Джейн наверх и покажет, где вы будете спать.
Карин вся подобралась. К ней тут же подошла хмурая Джейн – попросту не могла иначе. На ее стройном – для такого роста и комплекции – запястье висели их сумочки.
– Думаю, не стоит. Как-нибудь сами найдем. – Карин встала и спокойно посмотрела на Тревиса сверху вниз, впервые заметив, что глаза у него голубого, точь-в-точь как небо, цвета. – Тревис… – Она говорила искренне, и голос ее словно стал глубже. – Я хочу поблагодарить тебя за все – за угощение, за напитки, за то, что пригласил в свой прекрасный дом… Это так… клево.
Когда она умолкла, все засмеялись – словечко тоже было из подросткового жаргона, как и «свидание».
С тех пор, как Карин и Джейн покинули комнату, прошло уже много времени, а Тревис все еще сидел, прихлебывая бренди и покуривая сигару.
Наконец, прочистив горло, он позвал Брайона и, когда огромный, с внушительной внешностью кельта эмот появился сзади, протянул к нему руки и сказал слово, которым непременно заканчивал свой день: «Неси!»
Брайон бережно поднял Тревиса – обняв одной огромной ручищей под спину, а другой нежно обхватив ноги, точно нес гигантского младенца, – аккуратно вышел из комнаты и, поднявшись по угловой лестнице, направился в большую спальню. Поставив Тревиса на ноги возле кровати эпохи Наполеона Третьего, Брайон принялся ловко и заботливо раздевать его, – под старомодным костюмом обнаружилось сначала нижнее белье от Кельвина Кляйна, а потом уже и крепкое, сильное тело здорового мужчины тридцати пяти лет.
– Пижаму? – спросил эмот, и его «взрослый» согласно кивнул.
Брайон уложил Тревиса в кровать. «Взрослый» лежал на спине, руки – поверх одеяла, пижамная рубаха аккуратно застегнута на все пуговицы, – словом, гравюра из старой книги, да и только; в довершение композиции, на краю кровати сидел карманный Гаргантюа и гладил своей мягкой ладонью песочного цвета волосы Тревиса.
– Спок нок, Брайон, – пробормотал тот.
– Спок нок, Тревис, – выдохнул эмот.
Вскоре «взрослый» уснул.
Уснула и Карин в спальне наверху. Джейн заглянула в ее почти прикрытые ресницами глаза с выражением абсолютного участия, которое сменилось явным облегчением, как только она поняла, что «взрослая» подруга уже отключилась. Она встала с постели и встряхнулась, как крупный мастифф, – так встряхивается после хорошего сна красивое, здоровое и спокойное животное.
Джейн подошла к окну, с божественной грацией ступая стройными двухметровыми ногами, – боковой разрез у бедра на ее тускло поблескивавшем шелковом платье то расходился, то сходился вновь, – и взяла свою сумочку, откуда извлекла засунутую в сумку-холодильник пятилитровую бутылку «Столичной» водки – из тех, что разливают для банкетов. Поднеся ее к падавшему от окна свету, она с удовлетворением убедилась, что бутылка все еще покрыта инеем. Женщина-эмот снова полезла в сумочку и достала оттуда пачку классических «Мальборо» и одноразовую пластиковую зажигалку. Будь эти вещи обычного размера, в ее гигантских ручищах они смотрелись бы странно, но все было сделано специально для эмота – пачка сигарет размером с книжку в бумажном переплете и зажигалка длиной с карандаш. Держа зажигалку перед собой, точно дешевенький маяк, осторожно и легко, она прокралась к двери, открыла ее, пригнулась и осторожно высунула наружу сначала большое туловище, а затем длинные руки и ноги.
На промежуточной лестничной площадке Джейн встретила Брайона – тот выбирался из большой спальни точно таким же манером, как это только что проделала она сама: постепенно вытягивая себя по частям, протискиваясь сквозь крошечную для его размеров щель дверного проема. Он выпрямился во весь свой внушительный рост. Даже в тусклом свете двух причудливых барочных люстр, которые Тревис откопал в Венеции, Джейн смогла разглядеть тень радостного изумления и понимания, отразившихся на его красивом лице. Джейн поднесла к своему лицу огонек от зажигалки и заиндевевшую бутылку водки. «Покутим?» – одними губами проговорила она. Брайон широко улыбнулся и энергично затряс головой, приглашая ее спускаться вниз вслед за ним.
В большой гостиной все еще стоял на полу причудливо изогнутый старинный патефон, отбрасывая тень, похожую на завиток ушной раковины. На богатом узоре густого персидского ковра плясали тусклые отблески оранжевого уличного фонаря, светившего в окно, – отчего создавалась прекрасная и причудливая игра красок. Джейн подошла к окну; в это время Брайон осторожно запер двойные двери, ведущие на лестницу. Она отвинтила крышечку бутылки и как следует к ней приложилась. Горло огромной женщины запульсировало – и в четыре больших глотка она управилась с десятой частью содержимого. Поставив бутыль на подоконник, она вытащила из гигантской пачки сигарету и, чиркнув исполинской зажигалкой, прикурила ее. После чего выдохнула дым чередой коротких колечек и длинных струй – «азбука Морзе» человека, который сообщает, что ему хорошо.
Брайон наконец убедился, что дверь надежно заперта. Он включил свет, и комната вновь вспыхнула своим немного старомодным блеском.
– Ну что, – спросил Брайон, – впервые за много лет, несмотря на жуткий опыт и истерзанные нервы, она таки смогла заснуть в чужом доме? – Ирония не просто звучала в его голосе – она солировала.
– Ах-ха, кажется… еще бы не заснула – после таблетки тайленола, таблетки нитола и таблетки валиума. – Это уже был не веселый девичий гомон, а ровный, уверенный тон светской дамы.
– Бедный старина Тревис… – Брайон покачал своей благородной, как у римского сенатора с картины, головой. – Он добавляет к вышеперечисленному коктейлю еще и «Прозак», олух несчастный. Поди, и сам не знает, сможет ли сейчас уснуть без таблеток, – уже сто лет без них не ложился.
– Значит, он точно не проснется?
– Точно. А Карин?
– Не-а. Единственное, что, пожалуй, сможет разбудить спящую красавицу, – гм, что? Поцелуй? Да она ж помрет со страху!
– Значит, остаемся мы.
– Правильно. Мы одни. Выпьешь?
Брайон взял предложенную бутылку водки и выдул еще десятую часть. Достав аномально большую сигарету из протянутой пачки, он зажег ее, прижав кончик к кончику сигареты Джейн. Несколько секунд оба ждали, пока Брайон затянется, после чего он вдруг заговорил.
– О Господи, – гоготнул он. – Вот же зануда, в самом деле: «Не против, если мы… Ничего особенного. Будет неплохо…» Никогда не скажет того, что хочет сказать, и всегда говорит не то, что хочет, – как же он этим затрахал. – Голос эмота стал даже ниже, чем бас – в нем появились сверхзвуковые обертоны, отчего задрожали оконные стекла. Но теперь в его голосе не было ни тени иронии, ни капли сарказма – лишь подлинное, жутковато-снисходительное беспокойство.
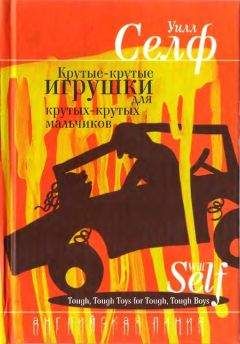

![Сандра Салманс - Боль в спине [Вопросы и ответы]](https://cdn.my-library.info/books/198001/198001.jpg)