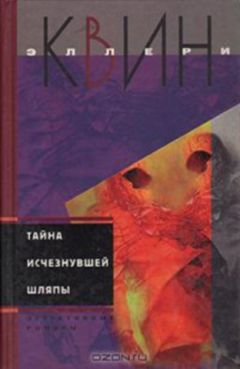Лина смотрит на меня и нехотя кивает, но на тренажер все же встает.
– Молодец, – киваю я и иду на выход.
Нашлась манипуляторша, блядь.
Кому: [email protected]
От: [email protected]
Тема: На распутье
Дорогая Люси!
С большим огорчением мне приходится принять к сведению все, что ты вчера сказала в «Сохо-хаусе», и признать, что наш проект тебе больше неинтересен. Так что, к сожалению, наше деловое сотрудничество на этом прекращается.
Желаю тебе всяческих успехов в будущем.
С уважением,
Валери Меркандо
Кому: [email protected]
От: [email protected]
Тема: Бог все видит
Лина,
мы с папой убиты горем. Вчера вечером мы молились за тебя. Потом откровенно обсудили, в чем мы были не правы. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы ошибались, пытаясь препятствовать твоему переезду в Чикаго и желанию стать художницей. Но мы волновались, что ты уедешь в этот город, где наркотики, гангстеры, трущобы и толпы людей, которые будут пытаться использовать юную одинокую девушку в своих неблаговидных целях. Мы хотели, чтобы ты училась в Миннесоте, но согласились на Чикаго, потому что думали, что бизнес-школа оградит тебя от неприятностей. Разве забота о собственном ребенке – преступление? Разве желание его защитить – грех? Если Господь благословит тебя иметь собственных детей – а для нас ты по-прежнему, несмотря ни на что, именно благословение, – тогда, возможно, ты избавишься от тех чувств, которые испытываешь к нам сейчас!
Да хранит тебя Бог.
С любовью,
мама
Кому: [email protected]
От: [email protected]
Тема: Бог все видит
Тыры-блядь-пыры, растопыры, нахуй.
Скульптор и тренер по фитнесу заняты одним и тем же – лепкой. Для Люси я такой же кусок глины. Иначе, зачем ей видеть, как у меня из-под кожи выходит жир, а вместо него формируется образцовая мышечная ткань? Можно ли понять ее мотивацию сквозь призму моей? Одно я знаю точно: после ада, через который я прошла, все былые испытания стали какими-то легковесными, да и будущие пугают все меньше.
К счастью, мне стало совершенно все равно, ощущаю ли я себя на толику стройнее, чем вчера. Все потому, что приключение это полно парадоксов: хоть я и чувствую, что мышцы с каждым днем становятся сильнее, понятно, что жилы и суставы уже не выдерживают. Лодыжки и колени болят, мышцы плеч, спины и рук все в узлах и страшно ноют. Но самая жуткая пытка – это ноги: они воспалены и зудят, все в волдырях, какой-то сыпи и жутких струпьях в местах, натертых кроссовками. Хорошо еще есть этот детский бассейн с медведем, в который можно погружать мозоли и отдыхать, глядя на эту счастливую, лыбящуюся рожицу!
Второе на сегодня занятие на беговой дорожке – час на 12 км/ч – выжгло меня дотла. Я сижу на матрасе, вытянув ноги: даже в позу лотоса не сесть, настолько они болят. Я так устала, что не могу ни о чем думать, кроме своей одышки, от которой меня вот-вот вырвет. Я сознаю, что, наверное, проморгала момент, когда наступило обезвоживание: это очень легко в закрытом помещении под кондиционером. Беру бутылку воды из переносного холодильника, который стоит рядом с матрасом. Что я здесь делаю? Ты пытаешься добраться до причины, но в жизни-то нет ничего линейного. В наших психопатических соцсетях мы делаем вид, что нас можно свести к какому-то таймлайну, но на самом деле мы как ирландское рагу: перманентно варимся и булькаем в своих кастрюльках. И я задумываюсь, чего в моем рагу больше всего.
Скульптуры Жермен Ришье (1902–1959) создают образы опустошения и насилия в Европе после Второй мировой войны. Изрытые выбоинами и шрамами поверхности ее скульптур, изувеченные лица красноречиво говорят о человеческом страдании. В то же время цельность ее персонажей и их ощутимое выразительное присутствие утверждают мысль о том, что человечество выжило, несмотря на ужасы войны. Моделью для этой скульптуры стал пожилой человек, который за пятьдесят лет до этого позировал Родену для скульптурного портрета Бальзака, но если у Родена это архетип мужской силы и творчества, то Ришье представила обезображенный, распадающийся образ. Увидев выставленные в институте работы Ришье, я сразу перенеслась обратно в Поттерс-Прери – в тот день, когда мы смотрели жуткие кадры атаки на Всемирный торговый центр.
Жермен Ришье родилась в Грансе, на юге Франции, и была по-настоящему необычным человеком. Она не принадлежала ни к академизму, ни к модернизму, а шла собственной дорогой; уехав в Париж, Ришье работала с Бурделем в последние годы его жизни. Катастрофические последствия войны оказали глубочайшее воздействие на ее мировоззренческий ландшафт. Крупные женские фигуры измельчали и стали похожими на насекомых, сохраняя при этом отчетливую женственность. С другой стороны, пугающие своими размерами фигуры (и мужские и женские), в частности «Шторм» и «Ураган», стали воплощением жестокости и безразличия сил природы.
Можно предположить, что недвусмысленные художественные решения этой яркой, волевой женщины (которая не произвела на свет детей – только скульптуры) были для нее способом выразить собственную женственность. И правда, грубоватые произведения, созданные Ришье, по виду напоминают ее саму, ее фигуру.
В эстетическом плане Ришье чуралась барочного маньеризма сюрреалистов. Усвоив их идеи, она использует их прямо, без излишних аффектаций и ритуальных разглагольствований. Парадокс Ришье состоит в том, что ее творчество, с одной стороны, широко признано, а с другой – его нередко обходят вниманием, в основном из-за отсутствия связи с тем или иным устоявшимся консервативным или прогрессивным художественным течением. По форме и по содержанию работы Ришье отличает невычурная аутентичность, и именно за это качество их прежде всего и ценят.
Аутентичность.
Пиздец, какое странное слово для художника.
А что было «аутентичного» в моей жизни?
Именно за это качество прежде всего и ценят. Это я написала. И сказала. Помню Ника Васильева, моего препода, который залился краской, когда перечитывал эту фразу. Лина Соренсон, пафосная и надменная, без пяти минут суперзвезда арт-мира. Они это чуяли за километр. Никто на всей планете не подходил для Института искусств лучше меня. Да и сам институт был создан, чтобы я блистала.
Аутентичность.
Я хотела тусоваться. Хотела насыщенной сексуальной жизни, как и любой первокурсник Института искусств. Но я пришла туда не для того, чтобы развлекаться, ходить по вечеринкам, трахаться и быть клевой. Я пришла учиться – учиться, чтобы стать художницей. Мною двигала жажда успеха, причем жажда эта была сильнее, чем у любого студента бизнес-школы. И я была настроена намного решительнее любого студента в институте. Я чувствовала в себе величие. Я хотела учиться, чтобы быть достойной этого величия.
В институте было два основных правила для новичков. Нужно было купить эппл-мак и поселиться в общежитии на Стейт-стрит. Общежитие располагалось в интересном здании рядом с книжным магазином «Бордерс» и киноцентром «Джин-Сискел», что было просто чудесно, несмотря на вероятность натолкнуться здесь на постылого Майки.
Белые, светлые комнаты с большими окнами и трековыми светильниками предназначались для совместного проживания двух студентов. Мне повезло: мы делили площадь с клевой кореянкой по имени Ким. Они с Амандой стали моими самыми близкими подругами. Но за съем общаги надо было заплатить вперед почти 20 тысяч долларов. Так что эта комнатушка на двоих оказалась самым дорогим жильем для меня и многих других за все время жизни в Чикаго. Дикая текучка студентов приносила институту большие деньги. В комнатах были ванная и кухня. Каждому студенту полагался чертежный стол, стул и шкаф, правда кровати находились на втором уровне, где было особо не уединиться. Была еще общая постирочная, помещения для отдыха и развлечений, в частности телегостиная и спортзал, и у каждого был свой персональный сейф. Главное же достоинство общежития заключалось в том, что оно находилось в двух шагах от института.
Я полюбила уроки и семинары – больше всего, конечно, 2D (живопись), но и 3D (скульптура) стало для меня откровением. Даже 4D (перформанс/видео) я изучала безо всякого раздражения, хотя и интереса к нему не испытывала. Потом была история искусств, которую я обожала. Другим студентам не терпелось поскорее свалить после учебного дня. У меня же всегда что-то обрывалось внутри, когда преподаватель говорил, что мне пора домой или хотя бы сходить пообедать.
Я не принадлежала к ядру институтской тусовки, однако имела четкое представление, как здесь все устроено. Все преподаватели были действующими художниками. Большинство придерживались марксистской эстетики и не приветствовали элитистское разделение искусства на высокое и низкое. Это часто давало странные результаты; когда я поступила, на подъеме было некое арт-движение, проповедовавшее детскую непосредственность. Среди произведений преобладали какие-то упаднические изображения единорогов и тому подобных существ. Искусству, которое теперь считается скорее нелепым и наивным – взять те же многочисленные копии мультперсонажей типа Гарфилда, – тогда приписывали псевдоуорхоловскую убедительность. Я сознавала, что мне этого всего не надо, но странным образом извлекла для себя пользу, потому что мои образы истощенных будущих людей, не разбираясь, приписали к этим конъюнктурщикам.