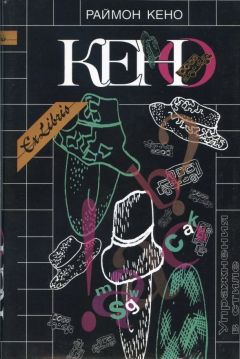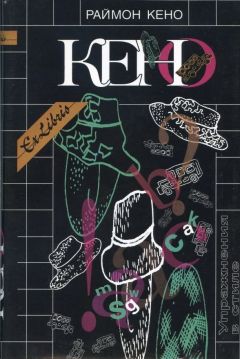– А вы хорошо позируете? – спросила Ванда, готовя карандаши для набросков.
– Конечно, раз в это время я смогу любоваться вами.
– О, как вы учтивы!
На Ванду и впрямь было приятно смотреть. Для работы она надела коричневые бархатные шаровары и блузу в крупную желто-коричневую клетку, с широким вырезом. Короткая стрижка, точеная, но крепкая шея, вызывающе упругая грудь.
– Как вы хотите позировать? Сидя на диване? Если угодно, можете читать, курить.
– Нет, лучше я буду разговаривать с вами.
На самом деле Кристиан говорил один. Ванда погрузилась в работу, отступая иногда назад, чтобы оценить свой рисунок, разглядывая его в зеркале, щуря глаза и высовывая от старания кончик языка. По прошествии часа она положила карандаши на мольберт и объявила:
– Перерыв пять минут, я жутко устала.
– Можно посмотреть?
Кристиан встал и, подойдя к Ванде, начал рассматривать рисунок. При этом он фамильярно обнял Ванду за плечи, и она без всякого стеснения прижалась к нему. Эскиз удивил Кристиана.
– Неужели вы видите меня таким? Я похож на злого священника. Но сам рисунок хорош.
– А вы и есть злой священник! – сказала она. – Надеюсь, вы хотя бы добрый муж?
Последнюю часть сеанса они говорили о Клер.
– Ее очень не любят в обществе, – сказала Ванда, – а вот я всегда ее защищаю. Женщине такой потрясающей красоты жить нелегко. Великая красота, как и великое богатство, чревато многими опасностями. Она дает ее обладательнице такую власть, что порождает в ней некое капризное безумие.
– Я не думаю, что моя жена безумна или капризна.
Внезапно Кристиану захотелось пропеть восторженный панегирик Клер, но он тут же вспомнил о письме и помрачнел.
– Сегодня у меня тяжело на душе, – сказал он. – Не хотите ли составить мне компанию и поужинать вместе?
– О, как это мило, – ответила Ванда, – я представляла вас совсем другим. А вы такой простой. Например, никогда бы не подумала, что вы можете так сказать: «У меня тяжело на душе».
– Почему же?
– Не знаю… Но мне и в голову не приходило такое… Эти слова не из лексикона ваших драм. Я буду очень рада провести с вами вечер, но только ужинать нам придется здесь: у меня много продуктов, которые могут испортиться из-за жары. Я все приготовлю сама. Вас устроит бифштекс с кровью, жареный картофель и камамбер?
– И еще как! – с жаром ответил он.
– Ну и прекрасно! Вы все это получите, а вдобавок я налью вам красного винца.
– Мне очень нравятся такие ужины рабочих, – сказал Кристиан.
– А мы и есть рабочие! – ответила Ванда. – Домашние ремесленники.
Он прошел за ней в крохотную кухоньку и стал с удовольствием наблюдать, как она готовит. В ней, как и в Фанни, ощущалась чувственная сила. Сейчас, с куском кровавого мяса в руках, она выглядела довольной, как пантера или львица, которая только что разорвала барана и облизывает крепкие клыки.
– Ну-ну, лапы прочь! – прикрикнула она на Кристиана. – Кухарку обнимать запрещено!
И все же он обнял и поцеловал ее, вдыхая здоровый запах ее плоти и жареного мяса. Она со смехом покорилась. Потом они весело поужинали, сидя на кожаных подушках.
– Погодите-ка, – сказала Ванда, – я вас угощу и музыкой. У меня есть пластинки с Мусоргским; замечательная вещь, хоть и малоизвестная.
– Ладно, – ответил он, – но, если вы хотите, чтобы я слушал молча, сядьте рядом со мной.
Она присела у ног Кристиана, облокотившись на его колени. Он стал поглаживать ее сильную шею, потом, опустив руку в вырез клетчатой блузы, начал ласкать грудь, видную ему сверху.
– Ах, как мне хорошо у вас! – вздохнул он. – Вы и представить себе не можете, что значит для меня эта языческая интерлюдия вне времени.
– Только не обольщайтесь, – ответила Ванда. – Мне тоже очень приятно быть с вами, но в моей жизни есть мужчина, которого я люблю; он мне дороже всего на свете. Вы его знаете – это пианист Розенкранц.
Кристиан время от времени встречал в обществе Розенкранца, романтичного музыканта и большого волокиту.
– Да, он очень талантливый пианист. Но только… его лучше слушать, чем любить.
– Я знаю, – ответила Ванда, тряхнув короткими волосами. – Прекрасно знаю. Он меня с ума сводит. Но ничего не могу сделать… я люблю его. Безумно люблю. Это очень тяжело.
– Вы часто с ним видитесь?
– Так часто, как только могу. Или, вернее, как он может. Он ведь почти все время гастролирует. И мне известно, что в поездках у него бывает множество любовных приключений. Большего изменника на свете нет!
– Но тогда почему?..
– А потому… Потому что он заставляет меня страдать – и жить. Потому что с ним мне никогда не бывает скучно. Потому что он великий музыкант. Но сколько в нем жестокости! И как безжалостно он обращается со мной – просто так, из чистого удовольствия. И все же он меня любит – тоже любит, когда находит для этого время.
Кристиан испытал укол чисто мужской ревности и, стараясь привлечь ее к себе, заговорил о своей работе:
– Прошлой ночью у меня возник один замысел, довольно оригинальный, который позволил бы выразить очень многое. В греческих поэмах боги, собираясь явиться людям, часто принимают облик мужчины или женщины. Но что, если, вздумав показаться нам с вами, они явились бы в нашем обличье? Представьте себе: вдруг появляется Афродита с вашим лицом, Юпитер – с моим. Мне кажется, в этой идее заложены интересные возможности.
Ванда никак не отреагировала на эти слова и, поднявшись, поставила новую пластинку.
– Послушайте, – сказала она. – Это Розенкранц исполняет «Картинки с выставки».
Кристиан был уязвлен; он представил себе, что́ ему ответила бы Клер, если бы он посвятил ее в свой замысел. «Она тут же выстроила бы мизансцены, – подумал он, – и напридумывала бы целую толпу персонажей… Потом сказала бы: „Это как-то странно и непонятно. Ну, делать нечего!“» И перед его мысленным взором возникла шапка ее пепельных волос, бледный лоб, светло-голубые глаза. Когда музыка смолкла, он тяжело вздохнул.
– Какая мощь, не правда ли?! – воскликнула Ванда. – Но я вижу, вы совсем приуныли?
И она вполголоса напела:
– Sometimes I’m happy, and sometimes I’m blue… My disposition all depends on you…[101] Сознайтесь, нынче вечером вы – blue?
– Да, сегодня я – blue, как вы выразились. Слушайте, вот было бы мило с вашей стороны, если бы вы позволили мне провести здесь ночь. Вы мне так сильно нравитесь, а я так боюсь остаться в одиночестве.
– Нет! – сказала Ванда, дружески положив руку на плечо Кристиану. – Это было бы ошибкой. О, не думайте, что я придаю этому большое значение. И вы мне вовсе не антипатичны, наоборот… Но подумайте сами: вы бы стали мечтать о своей Мелизанде, а я – о своем Казанове. Так не лучше ли нам мечтать о них врозь?
Он встал. Она подставила ему лоб для поцелуя и промолвила:
– Доброй ночи! Вы ведь еще придете позировать, да?
Кристиан подумал: «Она держится за свое… как все мы».
Несколько минут спустя он уже бодро шагал по улице Ренн. Стало свежо, в небе блестели звезды, и он вспомнил о мысе Фреэль и о морском ветре, который гнул ветки дрока.
Клер испугалась, что Кристиан, разозленный ее письмом, решит ее бросить и сбежать на какую-нибудь горную вершину, окутанную непроницаемыми тучами. Но ничего такого не произошло. В день возвращения, то есть через два месяца отсутствия, она приехала домой и нашла там своего мужа. Клер поклялась себе быть спокойной и нежной. Но никогда еще ни одна клятва не выполнялась так скверно. Казалось, ее признание не только не очистило атмосферу их супружеской жизни, но окончательно отравило ее. Избавившись от своего долгого молчания, Клер компенсировала двенадцать лет подавленных желаний бесконечными рассуждениями на все ту же навязчивую тему. Каждый вечер, часам к одиннадцати, когда они оставались одни, Кристиан видел, как в его жене просыпаются ночные фурии, полные решимости преследовать его. Клер неустанно, упорно повторяла историю своих разочарований… Детские мечты… Отроческие надежды… Мюссе… Верлен… Клод Паран… Альбер Ларрак… И он сам…
– Ах, почему вы не дождались вечера нашей свадьбы!..
До чего же Кристиану надоела эта скорбная сага!
– Клер, не могли бы вы поговорить о чем-нибудь другом? Неужели вы не понимаете, что причиняете мне боль?
– А вы думаете, мне не больно?
– Да, это правда, вы причиняете боль и самой себе, но вам приятна эта боль. И вы доставляете себе жестокое удовольствие, непрестанно бередя свою рану. Я уже давно заметил, как жадно вы хватаетесь за каждую возможность помучиться и поплакать. Все плохое, все враждебное, что выпадает на нашу долю, вы еще и удесятеряете, тогда как наши успехи, наши радости вы отбрасываете, не желая их видеть. Страдание – вот единственное, что доставляет вам наслаждение. Но я-то устроен иначе, дайте же мне покой!