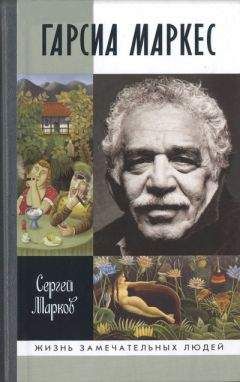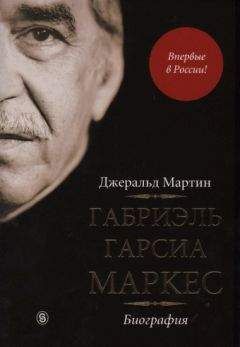Он был идеальным мужем: никогда в жизни ничего не поднял с полу, никогда не гасил свет, никогда не закрывал двери. И утром, в предрассветной темноте, когда на рубашке у него не хватало пуговицы, она слышала, как он говорил: «Человеку нужно две жены, одна — для любви, а другая — для пришивания пуговиц». Каждое утро, с первым глотком кофе или первой ложкой дымящегося супа, он издавал душераздирающий вопль, который уже никого не пугал, и тотчас же разражался: «Если я когда-нибудь уйду из этого дома, знайте: мне надоело вечно ходить с обожженным ртом». Он говорил, что в доме никогда не готовили таких аппетитных и разнообразных обедов, как в те дни, когда он не мог их есть из-за того, что принял слабительное, и так убедил себя, что все это — женины козни, что в конце концов соглашался принимать слабительное только в том случае, если и она примет его вместе с ним.
До смерти устав от его непонимания, она однажды, в день рождения, попросила его сделать ей необычный подарок: целый день вместо нее заниматься домашними делами. Предложение показалось ему занятным, и он согласился, и на самом деле ранним утром взялся за дело. Он приготовил замечательный завтрак, но забыл, что она терпеть не может яичницы и никогда не пила кофе с молоком. Потом принялся отдавать распоряжения насчет именинного обеда на восемь персон и с головой ушел в уборку дома, словом, так натрудился, стараясь управлять домом лучше, чем она, что еще до наступления полудня вынужден был капитулировать, ничуть не устыдившись. С первого же момента он понял, что не имеет ни малейшего представления о том, что где находится, особенно в кухне, а слуги и пальцем не шевельнули, чтобы помочь ему отыскать то или это, они тоже участвовали в игре. К десяти часам еще ничего не было решено относительно обеда, потому что не успели убрать дом, даже не застелили постели, не вымыли ванну, и он забыл, что нужно положить свежую туалетную бумагу, переменить простыни и послать кучера за детьми, и все время путал — какие обязанности у каждого из слуг: кухарке он приказал стелить постели, а на кухню послал горничных. В одиннадцать, когда гости были почти на пороге, беспорядок в доме стоял такой, что Фермина Даса, хохоча в душе, взяла бразды правления в свои руки, испытывая вовсе не торжество, как ей хотелось, а сострадание к совершенно бесполезному в домашних делах супругу. Он залечил свою рану обычным доводом: «Во всяком случае, не причинил того вреда, какой причинила бы ты, если бы взялась лечить моих больных». Однако урок оказался полезным, и не только для него. Все эти годы оба они разными путями шли к одному и тому же мудрому заключению: невозможно жить вместе иначе, и любить друг друга иначе тоже невозможно, ибо ничего труднее любви в этом мире нет.
В разгаре этой новой жизни Фермине Дасе не раз случалось видеть Флорентино Арису на людях, все чаще, по мере того как он делал карьеру в Карибском речном пароходстве, и она научилась относиться к нему так естественно, что, бывало, могла даже не поздороваться с ним по рассеянности. Она слышала и то, что говорили о нем, потому что в деловых кругах его осмотрительный, но неудержимый подъем вверх по служебной лестнице был постоянной темой разговоров. Она замечала, что и внешне он меняется к лучшему, его природная робость стала выглядеть загадочной отстраненностью, на пользу пошло и то, что он немного прибавил в весе, шла ему и появившаяся с возрастом медлительность, и проблему нарождавшейся лысины он решил достойно. Единственное, чем он по-прежнему бросал вызов времени и моде, была его мрачная одежда — давно вышедшие в тираж сюртуки, всегда одна и та же шляпа, поэтические галстуки-банты из галантерейной лавки его матушки и траурные зонты. Но в памяти Фермины Дасы остался другой образ, и в конце концов она перестала связывать этого Флорентино Арису с тем томным юношей, который вздыхал о ней под желтым листопадом в парке Евангелий. Во всяком случае, она никогда не глядела на него равнодушным оком и всегда была рада, если до нее доходили о нем добрые вести, потому что это как бы освобождало ее от чувства вины.
И когда она считала, что совершенно вымела его из памяти, он вдруг появился там, где она меньше всего его ожидала, обернувшись призраком ее былых мечтаний. Она еще не ощущала старости, только первое, легкое ее дуновение, и вдруг — стоило ей услышать раскаты грома, как она чувствовала: в ее жизни случилось непоправимое. Незаживающая рана, открывшаяся в том далеком октябре, грохотавшем громовыми раскатами каждый день в три часа пополудни в горах Вильянуэва, с годами саднила все сильнее и оживляла воспоминания. В то время как новые впечатления меркли в памяти уже через несколько дней, воспоминания о том замечательном путешествии по провинции кузины Ильдебранды оживали со временем так, словно все случилось только вчера, да еще с извращенной ностальгией точностью. Вспоминалось горное селение Манауре, одна сплошная улица, прямая и зеленая, и тамошние птицы, сулившие счастье, и дом с привидениями, где она просыпалась в рубашке, мокрой от непросыхающих слез Петры Моралес, которая умерла от любви в той самой постели много лет назад. Вспоминался вкус гуаявы — нигде и никогда больше гуаява не казалась такой вкусной, — а знамений было так много, что их вещий шепот она порою принимала за шум дождя; вспоминались и топазовые вечера в Сан-Хуан-де-ла-Сесаре, где она выходила прогуляться с кортежем своих ветреных и шумливых кузин, и как она старалась — изо всех сил сжимала зубы, чтобы сердце не выскочило, когда подходила к телеграфу. Конечно же, она продала отцовский дом потому, что не могла пересилить той пришедшей из юности боли: маленький парк, грустный и пустынный, таким он виделся ей с балкона, вещий запах гардений в жаркой ночи, страх перед старинным портретом дамы, который она испытывала в тот февральский день, когда решилась ее судьба, словом, куда бы в прошлое она ни обращала взгляд, повсюду натыкалась на память о Флорентино Арисе. И тем не менее ей вполне хватало ясности ума и душевного покоя, чтобы осознать: то не были воспоминания любви или раскаяния, но просто досадные образы, от которых порою набегала слеза. И, того не ведая, чуть было не угодила в ловушку сострадания, которая сгубила стольких неосмотрительных жертв.
Она ухватилась за супруга. Это было в ту пору, когда он нуждался в ней все больше, ибо был перед ней в проигрыше — шел на десять лет впереди и уже испытывал танталовы муки один, среди сгущавшихся туч старости; к тому же он был мужчиной, а значит, более слабым. После тридцати лет совместной супружеской жизни они знали друг друга так, что превратились словно в единое существо и частенько испытывали неловкость, угадывая не высказанную другим мысль, или же попадали в смешное положение, когда на людях один из них, опережая другого, говорил то, что другой как раз собирался сказать. Оба старались избегать обыденных житейских недоразумений, внезапных вспышек вражды, взаимных пакостей и нечаянных всплесков супружеского блаженства. Именно в ту пору они любили друг друга как никогда, без спешки, без излишеств, с благодарностью сознавая: невероятно, но наконец-то они одолели враждебность. Разумеется, жизнь еще готовила им смертельные испытания, но что им до этого: они были уже на другом берегу.
Дабы отпраздновать начало нового века должным образом, была разработана целая программа публичных мероприятий, и самым памятным событием оказался первый полет на воздушном шаре — плод неистощимой выдумки доктора Хувеналя Урбино. Полгорода сошлось на Арсенальную площадь, чтобы с восторгом наблюдать за подъемом огромного шара, празднично раскрашенного в цвета национального флага, который нес первую воздушную почту в Сан-Хуан-де-ла-Сьенагу, на расстояние тридцати миль по прямой к северо-востоку. Доктор Хувеналь Урбино с супругой, которым уже случилось пережить волнующий полет во время Всемирной выставки в Париже, поднялись в плетеную люльку первыми, вместе с инженером полета и еще шестерыми знатными гостями. При себе у них было письмо от губернатора провинции к муниципальным властям города Сан-Хуан-де-ла-Сьенага, которое свидетельствовало для истории, что оно является первым почтовым отправлением по воздуху. Хроникер из «Коммерческой газеты» спросил Хувеналя Урбино, каковы его последние слова, если ему суждено погибнуть в полете, и тот не замешкался с ответом, наверняка навлекшим на него немало попреков.
— На мой взгляд, — сказал доктор, — двадцатый век принесет перемены всему миру, кроме нас.
Затерянный в простодушной толпе, распевавшей национальный гимн, меж тем как воздушный шар набирал высоту, Флорентино Ариса почувствовал, что полностью согласен с кем-то, заметившим в сутолоке, что подобная авантюра — не для женщины, особенно в том возрасте, в котором находилась Фермина Даса. Однако затея оказалась не такой опасной, как казалось. Скорее гнетущей, чем опасной. Воздушный шар тихо и спокойно добрался до места назначения по неправдоподобно синему небу. Летели хорошо, очень низко, с приятным попутным ветром, сперва над отрогами снежных гор, а потом — над обширными водами Больших болот.