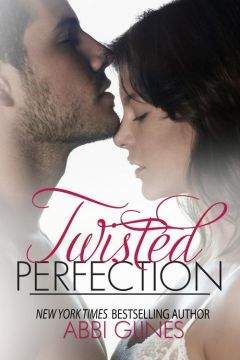Может, и так. Это ведь был период, когда люди могли выложить целое состояние (пусть и небольшое) за картину Ван Гога или Моне. Искусство тогда было на подъеме, а у людей были свободные деньги. Я каждый вечер видела, как они летели на ветер, вернее, лились от заката до рассвета вместе с импортной выпивкой.
– Послушай, тебе ведь не обязательно тут работать, – сказал он. – Если ты можешь так писать, тебе надо уходить отсюда.
Мне тогда не пришло в голову, что у него могут быть свои причины, чтобы так говорить. Я не подумала, что ему, может быть, было бы неприятно встречаться с хостес. Мне так понравилось то, что он сказал обо мне, что я не обдумала его слова хорошенько. У меня появилось ощущение, что как художница я стою гораздо больше, чем считала до этого. Я чуть придвинулась к нему, и наши колени соприкоснулись.
Он секунду смотрел на меня, затем отодвинулся.
– Увидимся завтра, – сказал он и встал. Подошел к бару, достал бумажник и расплатился. Я расстроилась. Он не притронулся к напиткам, не притронулся ко мне. Видимо, как хостес я никуда не гожусь.
Сейчас вечер. Прошло всего несколько часов с тех пор, как я сидела в парке и ждала своего сына. Я ем фрикасе и думаю о Кее. На мне черный шелковый костюм, в котором я пойду на работу. Я надевала его позавчера и до сих пор не постирала. Он пахнет сигаретами, хотя и висел на балконе. На ярлычке написано «только сухая химическая чистка», но мне жалко денег. Завтра постираю в раковине. Ничего с ним не будет. Я вспоминаю, как блестели на солнце волосы Кея. И тут раздается звонок в дверь.
Я никогда не открываю, если никого не жду. Обычно даже не смотрю в глазок. У нас тут много коммивояжеров ходит. Продают все – от лифчиков до земляники. А еще мне, падшей иностранке, досаждают дети. Глазеют, кричат что-нибудь обидное. Пихают в щель для писем бумажки, тряпки, жвачку. Один раз даже засунули дохлую птичку.
Звонок не умолкал. Я считаю до десяти и зажимаю уши пальцами. Эрик бы позвал по имени. И я точно знаю, что это не он, – у него в это время йога. Он не стоит перед моей дверью, а выполняет асаны вместе с японскими домохозяйками.
Ага, теперь начали стучать. Дверь трясется. Я слышу шарканье, мерзкий мокрый кашель. Я понимаю, что это мужчина и он ищет меня.
Надо бы выключить свет, но, если он его уже заметил, это может меня выдать. Жду, затаив дыхание. Удары прекратились, шаги удаляются. Открываются и закрываются двери лифта. Кабина загудела, спускаясь. Мой незваный гость едет на первый этаж. Автомобильная дверь – открылась, захлопнулась. Шум заведенного двигателя.
Аппетита как не бывало. Выбрасываю остатки фрикасе в мусорное ведро. Чищу зубы. Крашу губы в вызывающий алый цвет.
Сегодня я поговорю с Вероникой. Она лучше, чем кто-либо другой, понимает ту боль, которая разрывает меня изнутри.
Вероника сама не видела сына уже три года. Он остался в Маниле, а она уехала в Японию, чтобы зарабатывать денег на его воспитание. Отцом мальчика был американский морской пехотинец, простой парень из Кентукки. Он женился на Веронике, но вскоре вернулся в Америку, оставив дочь и ребенка на Филиппинах. Больше Вероника о нем ничего не слышала.
Мальчик живет с бабушкой. Она посылает дочери фотографии, и Вероника показывает их, когда у нас в клубе посвободнее. Красивый черноглазый мальчишка. Переднего зуба нет. Иногда они разговаривают по телефону, и на следующий вечер Вероника приходит на работу с сильно напудренным носом и красными глазами.
Размышляя о Веронике, я иду на работу. Мне удается не думать об угрожающем стуке в дверь. Пока я дошла до клуба, совсем успокоилась. По крайней мере, могу нормально дышать.
Год назад, увидев меня на пороге, мама Морита взяла меня обратно. «Ты мне как дочь», – сказала она и обняла меня. Объятия – чрезвычайно редкое явление в Японии. Я тогда висела на маме Морите не меньше пяти минут.
Я все ей рассказала: что я давала частные уроки английского языка и сначала учеников было много, но потом все разбежались; что мне нечем платить за квартиру и меня могут выгнать; что мой холодильник давно пуст. Нет, буфет у меня был под завязку забит жестянками со «Спагетти-Оу», любимой едой Кея, – но я берегла их как зеницу ока и чуть ли им не поклонялась. «Ты можешь выйт и уже сегодня вечером», – сказала мама Морита и похлопала меня по руке. Ее тяжелые кольца стукнули по моим пальцам.
И вот, год спустя, я все еще здесь, по-прежнему работаю хостес.
Остальные девушки уже собрались. Расселись кто где – на высоких мягких стульях перед стойкой, на диванах. По виду – гарем, да и только. Вероника, в ципао с пионами, сидит рядом с Бетти и красит ей ногти. Как было бы здорово запереть двери, налить чего-нибудь не очень крепкого и проболтать всю ночь, не чувствуя на бедрах пальцев пьяных бизнесменов, не ощущая их вонючего дыхания.
Только я об этом подумала, как дверь открылась и в клуб зашел первый посетитель.
Все сразу замолкают. Слышится судорожный вдох. Мама Морита с лучшей из своих дежурных улыбок спешит к двери.
На мужчине яркая гавайская рубашка. Руки полностью покрыты татуировками. Волосы выбелены перекисью, в углу рта блестит золотая зубочистка. Глаз не видно – он в темных очках. Впору рассмеяться, потому что он выглядит как карикатура на японского гангстера. Но я не смеюсь, потому что почти сразу же понимаю, что он пришел по мою душу.
– Джил, пожалуйста, составь компанию этому джентльмену. – Мама Морита берет его под руку и ведет к моему столику. Кивает одной из хостес, и та собирает поднос с выпивкой и арахисом.
Я знаю, что здесь я в относительной безопасности. Мама Морита следит за нами, да и вокруг полно девушек. Я сажусь и жду, когда он заговорит.
Он не собирается разговаривать о погоде.
– Я слышал, ты докучала сыну Ямасиро.
Он использует слово «тёнан» – старший сын, наследник.
– Он и мой сын тоже, – говорю я. Мне следовало бы испугаться, но я будто попала в малобюджетный детектив. Ситуация настолько нелепая, что кажется, будто все это сон.
Мама Морита ставит перед нами стаканы с напитками, я беру свой и делаю глоток до того, как он потянулся к своему, – чтобы показать этому ублюдку, как мало я его уважаю. Смесь крепкая и сразу ударяет в голову.
– А у вас есть дети? – спрашиваю я.
Он не обращает никакого внимания на мой вопрос.
– Ты нелегально работаешь по туристической визе, – говорит он. Обводит взглядом бар, слегка задерживается на красавице Веронике, на Бетти с ее багряными ногтями. – И они тоже.
Угроза понятна. Он может сделать так, что меня депортируют, а клуб мамы Мориты прикроют. Но мне нельзя бояться.
Потому что мой сын находится у плохих людей. Я не хочу, чтобы он рос в этом доме.
Что ж, пока я буду соглашаться. Чтобы он хотя бы на время оставил меня в покое. Я склоняю голову, на глазах – фальшивые слезы.
– Вакаримасита («понимаю»), – говорю я.
Он улыбается. Я могу полюбоваться целым набором серебряных зубов. Затем он залпом допивает свой стакан, шмыгает носом и уходит, не заплатив.
Никто не пытается его остановить.
Мои серфингисты-супергерои все еще висят в клубе мамы Мориты. А дома у нее есть еще одна моя картина. На ней – маленькая девочка в костюме для Ава Одори, танцевального фестиваля, который проводится в Токусиме каждый год в середине августа. Мне кажется, она напоминает маме Морите о дочери.
Я сделала первый набросок по памяти, за несколько часов до того, как Юсукэ впервые пришел ко мне домой. Он должен был посмотреть мои рисунки – а я планировала его соблазнить.
Но и тогда я встретила его в джинсах и легком свитере. Единственной провоцирующей деталью были карминовые ногти на ногах. «Не надо путать меня с девушкой из бара, – думала я. – Там я не настоящая. Там я на работе».
В прихожей он поклонился и снял туфли. Он принес коробку импортных шоколадных конфет. Я не знала, что и подумать. Цветы или духи – это было бы не так двусмысленно. Возможно, он просто решил не рисковать – многим иностранцам не нравятся японские сладости из фасоли.
Юсукэ был в темном костюме из шершавой ткани и галстуке, полыхающем всеми оттенками красного. Вроде бы одет как для свидания, но, может, он и на работу так ходит. От него чуть-чуть пахло одеколоном. Приятный, слегка мускусный аромат.
– Добро пожаловать, – сказала я и указала ему на подушки, разложенные на татами. «Вот мы лежим на этих подушках и кормим друг друга трюфелями, – представила я. – Как в турецком серале». Но Юсукэ устроился по-японски, на коленях. Я села так же, напротив него.
Мое портфолио лежало рядом, только руку протянуть.
– У меня здесь мало законченных работ, – сказала я, – но много набросков. А в следующие выходные я поеду в Ариму. И набросков будет еще больше.
Блондель Мэлоун тоже ездила в Ариму. Я хотела как можно точнее повторить маршрут ее путешествия по Японии. Еще я планировала, пока не закончился срок стажировки, провести несколько дней где-нибудь рядом с Фудзиямой. И написать гавань в Иокогаме.