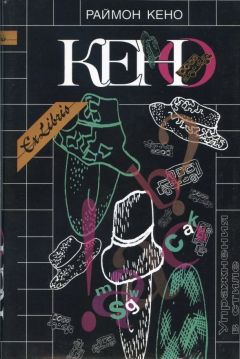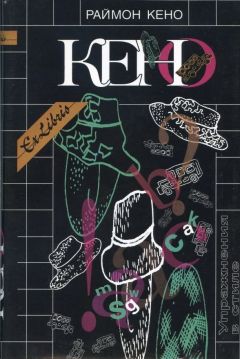– Но я постоянно вижусь с миссис Менетрие, – ответил профессор Райт. – Да и вся эта церемония была организована с ее помощью, более того, как я полагаю, по ее инициативе. Это она посоветовала мне обратиться к вам за дополнительной информацией… Впрочем, я намеревался просить вас осветить именно ее роль в их браке. Судя по ее словам, они с Менетрие были необыкновенно дружной парой, и, по-моему, она желает, чтобы я в своей речи особо подчеркнул это обстоятельство. Я, конечно, охотно сделаю это, но мне не хотелось бы допустить неточности. Правда ли, что она была ему преданной женой и прекрасной помощницей?
– Да, – сказал Бертран.
– Нет, – сказала Изабель.
Они ответили одновременно, и профессор Райт удивленно взглянул на того и на другую.
– Я вижу, мне будет нелегко, – сказал он.
– Мне кажется, мы с женой ответили на разные вопросы, – объяснил Бертран. – Моя жена, сказав «нет», имела в виду жизнь четы Менетрие в целом. Я же, сказав «да», думал о последних годах этой пары.
– Здесь необходимо знать всю их историю, – добавила Изабель. – Известна ли профессору Райту биография Клер Менетрие?
– В основных чертах – да, миссис Шмит. Я знаю, что ее maiden name[110] – Клер Форжо, что она дочь генерала, погибшего в битве на Марне, и что ее former husband[111] был создатель автомобилей, вроде американского Форда. Верно?
– Верно, – ответила Изабель. – В то время она считалась в Париже необыкновенной красавицей.
– Не считалась, – поправил Бертран, – а действительно была ею. Она была очень хороша собой. Впрочем, она и сейчас красива.
– И необыкновенно умна, – добавила Изабель, – но ее отличала какая-то неприятная холодность. У нее было мало друзей, да она и не стремилась их иметь; были недоброжелатели, вернее, недоброжелательницы, которых она безжалостно третировала.
– По крайней мере внешне все выглядело именно так, – продолжал Бертран. – Но те, кому выпала удача хоть раз поговорить с ней дружески, в те редкие минуты, когда она сбрасывала с себя броню неприступности, обнаруживали в ней пылкую душу, буйное, почти бальзаковское воображение и, осмелюсь сказать, почти гениальность.
– Впрочем, так о ней судили мужчины, – возразила Изабель, – очарованные ее прекрасными глазами и двусмысленной улыбкой. Что же касается женщин более проницательных…
– Или более ревнивых, – вставил Бертран.
– …то они думали, – подхватила Изабель, – что ее ум, достоинства которого я не отрицаю, маскировал полное неведение в области самых обычных чувств. Ну какую роль может играть в качестве вдохновительницы поэта женщина, не изведавшая материнской любви, сыновней любви, да просто любви как таковой?! В результате Клер наскучила сначала первому, а затем и второму мужу. Альбер Ларрак после этого неудачного опыта вернулся к своей прежней пассии, а Кристиан после десяти лет брака снова начал порхать с ветки на ветку.
Профессор Райт, крайне удивленный горячностью Изабель, повернулся к Бертрану.
– Это правда? – спросил он.
– Наполовину правда, – ответил тот, – но только наполовину. Факт остается фактом: Менетрие, который, по выражению моей жены, порхал с ветки на ветку, в конечном счете всегда возвращался в супружеское гнездо; верно и то, что, когда на них обрушились настоящие несчастья, Клер показала себя мужественной, преданной и в общем, как вы сказали в начале нашей беседы, замечательной женщиной.
На сей раз профессор обратился с тем же вопросом к Изабель:
– Это правда?
– Истинная правда, – ответила она. – Справедливости ради стоит добавить, что с тысяча девятьсот тридцать восьмого года я заметила, что Клер старается – не всегда успешно, но явно – пересилить, перевоспитать себя. В ней чувствовалось меньше горечи, больше человечности, она начала лучше заботиться о сыне, – словом, к тому моменту, когда разразилась война, отношения супругов Менетрие, по мнению всех наших друзей, стали гораздо сердечнее.
– Эта война, – сказал Бертран, – глубоко потрясла Кристиана. В тридцать девятом году многие французские писатели, по разным политическим мотивам, не решались действовать, тогда как Менетрие опубликовал в «Фигаро» серию пламенных и, по моему мнению, прекрасных статей, обличавших нацизм и фашизм. Кроме того, он начал писать свою грандиозную трилогию «Германцы», которая, к несчастью, осталась незавершенной, но которую можно без преувеличения сравнить с «Персами» Эсхила.
– Вполне согласен, – ответил профессор.
– Последствия этих статей легко было предугадать, – продолжал Бертран. – К сороковому году, когда немцы вошли в Париж, их радио ежедневно осыпало проклятиями Кристиана Менетрие как врага народа и грозило ему смертью. Поэтому он был вынужден покинуть Париж. Сначала супруги уехали в Сарразак, к генеральше Форжо, но, поскольку Сарразак остался в оккупированной зоне, им пришлось бежать в Испанию. Оттуда они перебрались в Марокко, и моя жена виделась с ними, когда была в Северной Африке.
– Но почему они не уехали в Америку? – спросил профессор Райт. – Там у Менетрие были друзья и почитатели; мы были бы горды и счастливы принять его у себя.
– Видите ли, – сказал Бертран, – Кристиан слишком плохо себя чувствовал для такого долгого путешествия. Вам известна странная история его болезни? Я всегда думал, что, если бы Кристиан захотел создать «Миф о Кристиане», он не смог бы придумать ничего более поэтического. Вы знаете, что он буквально обожал красные розы. И в тот момент, когда они покидали Париж, он решил увезти с собой все розы из своего сада и довольно сильно поранил руки их шипами. Взволнованный поражением страны и отъездом, он не придал этой мелочи никакого значения, но уже в Сарразаке воспалившаяся рука стала причинять ему сильную боль. В Испании у него началось заражение крови, и какое-то время были даже опасения, что руку придется ампутировать. Однако ее спас молодой мадридский хирург, большой любитель книг Кристиана. К несчастью, это заражение стало причиной болезни крови – внезапного белокровия, которое в несколько месяцев привело к крайнему истощению организма. В декабре сорокового года он жил в Марокко, в Касабланке, – именно там моя жена видела его в последний раз.
– Он был бледен как смерть, – продолжила Изабель, – и чудовищно исхудал. Он знал, что умирает, и говорил о своем близком конце со смесью мрачной фантазии и какой-то душераздирающей покорности судьбе. И вот тут я вынуждена признать, что Клер в данном случае оказалась на высоте. Все их деньги остались во Франции, что говорит к их чести, но парижские счета были заморожены немцами. Конечно, Кристиану причитались какие-то авторские гонорары в Соединенных Штатах, но вы же знаете, сколько времени требуется на получение денег из другой страны, да и эти суммы приносили им ничтожный ежемесячный доход. В Касабланке они жили в номере отеля самого низкого пошиба. Клер готовила почти всю еду на плитке: рестораны были для них недоступной роскошью. Я вспоминаю один поразивший меня эпизод: однажды Клер пыталась приготовить для Кристиана завтрак, состоявший из пары яиц, которые она достала с большим трудом и за большие деньги; она разбила их так неловко, что половина вылилась на пол. «Это ужасно! – воскликнула она со слезами на глазах. – Меня ведь никогда не учили стряпать, руки дрожат, и вот что вышло…» Она чинила свою и его одежду, сама ухаживала за Кристианом, который безумно боялся попасть в больницу. И все это делала без видимых усилий, без жалоб и слабодушия. Только что вам, наверное, показалось, что я слишком сурово отозвалась о Клер Ларрак и о Клер Менетрие во времена ее процветания. Но теперь я признаю, что несчастье преобразило ее и что она встретила его с поистине королевским достоинством.
– То, что было справедливо для Касабланки, можно сказать и о Нью-Йорке, – ответил профессор Райт. – Не знаю, посещали ли вы миссис Менетрие в ее комнатушке на Вест-Энд-авеню. Она живет в старом доме, скверно обставленном, без всяких удобств, работает целый день продавщицей в книжном магазине и никогда ни на что не жалуется. Единственная роскошь, которую она себе позволяет, – это покупка прекрасно изданных экземпляров всех книг ее мужа, а перед его портретом всегда стоит ваза со свежими красными розами.
– Нам это известно, – сказала Изабель. – Время от времени мы навещаем ее. Я часто хожу с ней на цветочный рынок.
– Но как вы объясните эту метаморфозу, миссис Шмит, если описали ее совсем иной?
– Может быть, все люди ведут себя гораздо достойнее в беде и в бедности?
– Нет, Изабель, нет! – энергично возразил Бертран. – Вы, как и я, могли убедиться, что бедствия, наоборот, порождают в некоторых людях пессимизм, зависть и жестокость. Истина заключается в том, что несчастье пробуждает благородство в благородных душах. Лично я полагаю, что характер Клер был довольно близок к характеру некоторых святых праведниц, которые обретали душевный покой только в постах и лишениях. Она стремилась к величию, к жертвенности, к вере и поклонению, а нужно признать, профессор Райт, что мы, мужчины, нечасто способны утолить жажду поклонения у женщин.