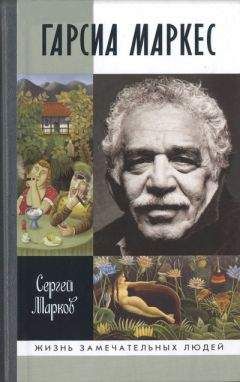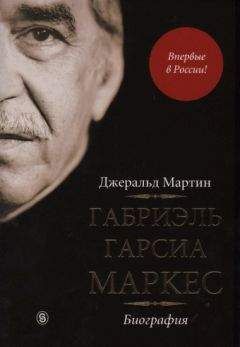Выхода не было. В таком городе невозможно скрыть болезнь, если докторский кучер стоит у дверей. Иногда доктор отваживался идти пешком, если расстояние позволяло, или же садился в наемный экипаж, дабы избежать злонамеренных и скороспелых домыслов. Но подобные уловки мало помогали, потому что по рецептам, которые отдавались в аптеки, можно было разгадать правду, и доктор Урбино наряду с правильными, нужными для лечения лекарствами выписывал вымышленные, во имя священного права больного унести вместе с собой в могилу тайну своей болезни. Конечно, можно было придумать множество достойных оправданий тому, что его экипаж простаивает перед дверью сеньориты Линч, но придумывать можно было не долго, во всяком случае, не столько, сколько бы ему хотелось: всю жизнь.
Мир обернулся для него адом. Да, он удовлетворил свое сумасшедшее желание, при том что оба прекрасно понимали, насколько это рискованно, но у доктора Хувеналя Урбино не было намерения идти на скандал. В горячечном бреду он обещал все, а после, когда горячка проходила, все откладывалось на потом. Чем больше он желал быть с нею, тем больше боялся потерять ее. А встречи их с каждым разом становились все более торопливыми и трудными. Ни о чем другом он уже не мог думать. В невыносимой тревоге ждал урочного часа и забывал обо всем, кроме нее, но когда экипаж приближался к Пропащему берегу, он начинал молить Бога, чтобы в последний момент какое-нибудь непредвиденное обстоятельство возникло и заставило бы его проехать мимо. И так велики были его муки, что, случалось, он радовался, завидя еще от угла белую, как хлопок, голову преподобного Линча, читавшего на террасе, в то время как его дочь в гостиной распевала евангельские псалмы для соседских ребятишек. Он возвращался домой счастливый, что не пришлось в очередной раз испытывать судьбу, но потом опять начинал метаться и сходить с ума, потому что наступал новый день и приближались пять часов пополудни. И так — каждый день. Словом, любовь эта стала совершенно невозможной, докторский экипаж перед дверью сеньориты Линч стал чересчур заметен, а к концу третьего месяца все выглядело просто смешным. Не тратя времени на разговоры, сеньорита Линч кидалась в спальню, едва завидя на пороге безрассудного любовника. Она уже приспособилась в дни, когда его ожидала, предусмотрительно надевать широкую юбку, прелестную цветастую оборчатую юбку с Ямайки, и никакого белья под ней, совсем ничего, полагая, что простота одеяния поможет побороть страх. Но он сводил на нет все ее усилия сделать его счастливым. Тяжело дыша, он следовал за нею, весь в поту, и, ввалившись в спальню, тотчас же бросал на пол все — трость, докторский чемоданчик, шляпу — и в панике принимался за дело: со спущенными до колен брюками, в застегнутом на все пуговицы пиджаке, чтобы не мешал, не вынув из кармашка часы на цепочке и не снимая ботинок, словом, так, чтобы сразу же уйти, едва исполнит собственное удовольствие. А она, не успев ничего вкусить, даже не отведав, оставалась один на один со своим одиночеством, в то время как он уже снова застегивался, обессиленный, словно совершил небывалый подвиг любви на той невидимой линии, что отделяет жизнь от смерти, а весь-то подвиг состоял в простом физическом усилии. Зато в остальном все было как положено: времени тратилось не более, чем на простое внутривенное вливание, обыденную лечебную процедуру. Он возвращался домой, стыдясь собственной слабости, желая только одного — умереть, и клял себя за то, что не имеет мужества попросить Фермину Дасу снять с него штаны и посадить на горячие угли.
Он не ужинал, молился без убежденности и, лежа в постели, притворялся, будто читает начатую в сиесту книгу, меж тем как его жена бродила по дому, наводя порядок, прежде чем отправиться спать. Потом он начинал клевать носом над книгой и постепенно снова погружался в неминуемый цветник сеньориты Линч, во влажный дух ее цветущего тела, и снова оказывался в ее постели — где забыться и умереть! — и больше не мог думать ни о чем, кроме одного: о том, как завтра ровно без пяти пять пополудни она снова будет ждать его в постели, и на ней — ничего, только холмик с темной зарослью под сумасшедшей оборчатой юбкой из Ямайки: адский порочный круг.
Уже несколько лет, как он начал ощущать вес собственного тела. Он узнавал симптомы. Он знал их по книгам и видел подтверждение в жизни, на пожилых пациентах, прежде серьезно не болевших, которые вдруг начинали описывать синдромы с такой точностью, будто вычитали их в медицинских учебниках, но которые тем не менее оказывались ложными. Его учитель из детской больницы в Сальпетриере когда-то советовал ему выбрать педиатрию, как наиболее честную врачебную специальность, потому что дети болеют только тогда, когда они на самом деле больны, и общаются с врачом не приличествующими случаю словами, а конкретными симптомами реальных болезней. Взрослые же, начиная с определенного возраста, или имеют все симптомы без самой болезни, или еще хуже: серьезные заболевания с симптомами других, безобидных. Он отвлекал их паллиативами, давал им время, чтобы они научились не замечать своего недомогания, коль скоро вынуждены сосуществовать с ним на мусорной свалке старости. И только одно никогда не приходило в голову доктору Хувеналю Урбино: что врач в его возрасте, который, казалось, видел все, не сможет преодолеть тревожного ощущения болезни, в то время как самой болезни не было. Или еще хуже: не поверит в то, что болен, из чисто научных предубеждений, меж тем как, возможно, действительно болен. В сорок лет, наполовину в шутку, наполовину всерьез, он, бывало, говорил с кафедры: «Единственное, что мне необходимо в жизни, — чтобы кто-то меня понимал». Но теперь, окончательно и бесповоротно запутавшись в лабиринте сеньориты Линч, он стал думать об этом без шуток.
Все подлинные или вымышленные симптомы его пожилых пациентов вдруг скопились в его теле. Он чувствовал форму собственной печени с такой точностью, что мог показать ее размеры, не притрагиваясь к животу. Он слышал, как спящим котом урчат его почки, ощущал переливчатый блеск своего желчного пузыря, улавливал тихий ток крови в артериях. Случалось, на рассвете он просыпался и, словно рыба, хватал воздух ртом. В сердце скопилась жидкость. Он чувствовал, как оно вдруг пропускает один удар или сбивается с ритма, словно школьная колонна на марше, раз и другой, но потом снова входит в ритм, потому что Господь велик. Однако вместо того, чтобы прибегнуть к тем самым способам отвлечения, какие он применял к своим больным, доктор поддался страху. Действительно: единственное, что было необходимо ему в жизни теперь, в пятьдесят восемь лет, — чтобы кто-то его понимал. И он бросился к Фермине Дасе, той, которая любила его больше всех, которую сам любил больше всего на свете и с которой только что наконец-то пришел к миру и покою в полном согласии с совестью.
Итак, это случилось после того, как она прервала его послеобеденное чтение, попросив посмотреть ей в глаза, и он почувствовал впервые, что адский порочный круг, в котором он метался, раскрыт. Правда, он не понимал, каким образом это произошло, — не с помощью же обоняния, в самом деле, Фермина Даса открыла правду. Разумеется, уже очень давно этот город не годился для секретов. Едва установили первые домашние телефоны, как несколько супружеских пар, казавшихся вполне благополучными, перестали быть таковыми по вине сплетен, пошедших из-за каких-то анонимных телефонных звонков, и многие семьи, перепугавшись, отказались от услуг телефонной компании или попросту долгие годы не желали ставить телефон. Доктор Урбино знал, что его жена слишком уважает себя, чтобы позволить кому-то даже попытку анонимного оговора по телефону, и не мог представить никого, кто бы осмелился сделать это открыто. Нет, он боялся старинных методов: записка, просунутая под дверь незнакомой рукой, могла сыграть такую роль, ибо не только гарантировала анонимность и отправителю, и получателю, — ее загадочное появление позволяло предполагать некую метафизическую связь с Божественным промыслом.
Ревность не знала дороги в этот дом; на протяжении более тридцати лет супружеского согласия доктор Урбино не раз кичился этим на людях, и до поры до времени так оно и было: мол, ревность — что шведские спички, загораются только от собственной коробки. Он никогда не думал, как отнесется женщина с такой гордостью, достоинством и твердым характером, как у его жены, к доказательствам неверности. И когда он поглядел ей в глаза, как она просила, то не нашел ничего лучшего, как опустить взгляд, чтобы скрыть замешательство и притвориться, будто ушел в путешествие по прелестным излучинам острова Алька, а сам думал: что же делать? Фермина Даса тоже не сказала больше ничего. Закончив штопать чулки, кое-как запихнула нитки с иглою в швейную шкатулку, отдала распоряжение об ужине на кухне и ушла в спальню.