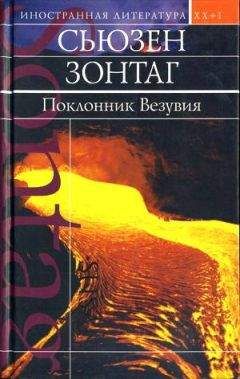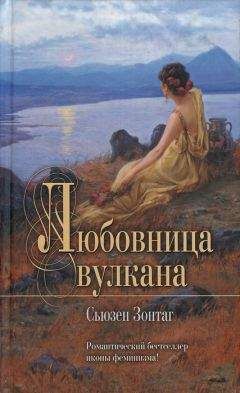С адмиралом все шло по-старому, он был из тех мужчин, которые не меняются. Никогда не видела, чтобы кто-то так боготворил женщину, он по-прежнему не мог отвести от нее глаз. Когда она входила в комнату, у него лицо светлело, даже если она вышла всего минуту назад, но ведь и со мной, когда она входила в комнату, всю жизнь бывало то же самое. Но я была ей мать. Нет любви сильнее той, какую испытывает безмужняя женщина к своему единственному ребенку. Ни один мужчина не чувствует такого к женщине, ни женщина к мужчине. Но, должна сказать, адмирал любил ее почти так же, как и я, старуха-мать. Хотя, если подумать, мы любили одну и ту же женщину, самую прекрасную женщину на всем белом свете. И мне досталась радость знать ее всю жизнь, а он знал ее всего семь лет.
Мы очень грустили, когда помер ее муж, несмотря на то, что они этого ждали и даже рассчитывали на это, оно и понятно, ведь тогда они смогли бы взять к себе своего ребенка, и мы стали бы настоящей семьей, особенно если бы жена адмирала тоже умерла или дала бы ему развод. Старик не очень страдал, он просто перестал удить рыбу, это был первый признак. Потом он сделался неразговорчив, и в феврале слег, а в конце, когда ему стало хуже, попросил перевезти его в лондонский дом, там был красивый дом с богатой мебелью, ее купила моя душенька, продала все свои драгоценности. Ходила за ним в основном я. Он мне доверял, потому что я тоже старая, хоть и не такая старая, как он, я была еще очень крепкая. Я растирала ему ноги. В апреле он скончался, очень тихо, а моя девочка и адмирал были при нем, держали его с обеих сторон.
Когда зачитали завещание, меня как громом ударило. Бессердечное, злое завещание. Но моя душенька сказала, что все это неважно, она всегда знала, что его наследник – Чарльз, еще когда жила с Чарльзом, даже до встречи со стариком. Но вспомни, что было потом, сказала я. Тише, сказала она. И не позволила мне это обсуждать. А Чарльз через месяц выставил нас из дому. Но мы нашли другой, правда, маленький, и у нас должна была начаться совсем другая жизнь, но тут опять разразилась война, и возлюбленному моей дочери пришлось вернуться на службу, и его не было с нами полтора года! Они были в отчаянии. Где он только не гонялся за Бонн, и в Вест-Индии, и снова в Средиземноморье, даже в Неаполе останавливался. Кажется, он писал моей девочке, что наш бывший дом переделали под гостиницу, и к тому же не слишком чистую. Мы были рады, что старый посол не дожил до такого известия, его бы это добило, а нас не очень взволновало, меня по крайней мере. Я всегда говорила: если пришла пора расстаться со старой жизнью, это надо принять, идти дальше и ни о чем не жалеть. Иначе придется все время грустить, потому что всю жизнь человек что-нибудь теряет. Такова жизнь, и если вы слишком уж сгибаетесь под ударами судьбы, то не заметите новых возможностей. Если бы я этого не понимала, у меня не было бы такой хорошей жизни. То же самое касается и моей дочери, потому что на этот счет у нее было точно такое же мнение.
Так что мы не теряли надежды, и на следующий год ее любимый вернулся домой и…
Все получилось не так, как мы рассчитывали. Бедная, бедная моя девочка. Они пробыли вместе всего восемнадцать дней, и дом все это время был полон офицеров и людей из Адмиралтейства.
Я все время говорила ей, что все будет хорошо, что он всегда возвращался, вернется и на этот раз. Но на этот раз, сказала она, ожидается очень большое сражение. Поэтому он и уходит. Я сказала, что он сильнее этого француза, и что она родилась под счастливой звездой, и что все всегда обходилось, но на этот раз не обошлось.
И, после того как он погиб, с ее именем на устах, это капитан Харди нам рассказал, все, кроме кредиторов, повернулись к нам спиной. Старик оставил ей сколько-то там в год и триста фунтов на уплату долгов, но только она задолжала гораздо больше. И мы переехали в домик еще меньше, а потом еще меньше, и с нами теперь был ребенок, носивший его имя, но от короны, против ее ожиданий, мы не получили ничего, никакой пенсии, даже на достойное воспитание его ребенка. А ей надо было прилично жить и хоть как-то развлекаться, и от этого получались новые долги, а еще слуги, и гувернантка для ребенка, и пила моя душенька больше, чем следовало, но так и я тоже, что же еще было делать, когда все оказались такими жестокими. Но я сказала ей: ты увидишь, не всегда все будет так, и мы есть друг у друга, и какой-нибудь мужчина обязательно тебе поможет. В деревне у нас был один сосед, он, добрый человек, посылал нам деньги, думаю, жалел нас, потому что и сам от людей натерпелся. И я сказала, вот, например, мистер Голдсмит, а она расхохоталась, горьким таким смехом, и говорит, Абрахам Голдсмит счастлив со своей женой, и у него прекрасная семья. Я ей напомнила, что ни один мужчина не может перед ней устоять, какая бы у него ни была расчудесная жена, но она заставила пообещать, что я больше никогда не стану ничего выдумывать о ней и мистере Голдсмите, так что ничего из того не вышло. Но он, добрая душа, время от времени посылал нам денег, надеюсь, его за это возьмут в рай.
Так что, в конце концов, хорошо не было. Все ее покинули, даже тот, кого она любила больше всех на свете, конечно, он не собирался умирать, но, если он хотел остаться в живых и вернуться к ней, зачем было расхаживать по кораблю в адмиральском платье со всеми звездами и подставляться под пули французского стрелка, который так легко его заметил и убил. Мужчины такие глупые. Женщины бывают тщеславны, но если тщеславен мужчина, то он тщеславен свыше всех пределов и во имя своего тщеславия готов даже умереть. Все бросили мою бедную девочку, даже я через четыре года после гибели маленького адмирала ее покинула, а я так хотела заботиться о ней, ей очень нужна была забота, и на меня она всегда могла рассчитывать. Я не хочу говорить о том, что стало с нею после. После моей смерти моя дочь была очень несчастна.
Во мне была какая-то магия. Я чувствовала это по тому, как ко мне относились окружающие – так, словно я была больше самой жизни. А потом, сколько историй обо мне рассказывали! Что-то в них ложь, но что-то – правда.
Только этим я и могу объяснить, почему когда-то меня так превозносили, почему передо мной открывались все двери. Я была очень талантливой актрисой. Но талант – еще не главное. Я отличалась умом, любознательностью, сообразительностью, и, хотя мужчины не ждут от женщин, чтобы те были умны, но, когда ум есть, они это ценят, особенно если женщина старается понять то, что интересно мужчинам. Но умных женщин много. Не подумайте, будто я недооцениваю силу красоты, – нет, ведь я подверглась такому поношению, когда ее лишилась. Но и красивых женщин много, так почему же, я спрашиваю, всегда найдется одна, которую, пусть недолго, называют самой красивой? То, что я прославилась благодаря своей красоте, доказывает лишь одно: во мне было нечто, что, словно круг света, притягивало к себе внимание.
Это нечто иной раз заставляло меня делать странные вещи. Вспоминаю, как совсем крошкой, у себя в деревне, зимой, я без цели стояла у дороги, ничего не делая и глядя по сторонам, но я чувствовала, что из моих глаз исходит какой-то луч. Этот луч вбирал в себя всех: и тех несчастных, кто трясся от холода, и тех, кто трудился в поте лица, и тех, кто предавался праздности. Я уже тогда понимала: я – другая. На меня снизошло знание, что своим взглядом я могу согревать людей. И я пошла по дороге, согревая их, а они поворачивались ко мне, как подсолнухи. Конечно, это была глупая детская фантазия, о которой я скоро забыла. Но и став взрослой, когда я шла по улице, входила в комнаты, смотрела из окон дома или кареты, то всегда знала: я должна отыскать взглядом, вобрать им как можно больше людей.
Где бы я ни оказалась, я ощущала свою избранность. Не знаю, откуда взялась во мне эта уверенность. Я никак не могла быть такой уж необыкновенной, а все-таки – была. Другие казались такими нетребовательными, такими смиренными. Мне хотелось разбудить их, открыть им глаза, чтобы они увидели, как прекрасно жить на этой земле. Все вокруг стремились к спокойствию. А мне хотелось, чтобы они научились себя ценить. Поняли, что такое истинные чувства, настоящая любовь.
Приятнее было общаться с людьми, одержимо чем-то увлеченными. Мне одержимость не была свойственна, но мною всегда владел энтузиазм. Даже когда я была красивой, я не отличалась элегантностью. Я никогда не сдерживала своих чувств. Я не была чванлива. Я была порывиста. Страстно желала возвышенной, пламенной любви. Объятия мне были не нужны. К чему тереться телами друг о друга, потеть вместе? Я любила пронзать взглядом и любила, чтобы пронзали взглядом меня.
Я слышала звук своего голоса. Мой голос обволакивал людей, вселял в них надежду. Но еще лучше я умела слушать. Бывают минуты, когда необходимо молчать. В эти минуты вы соприкасаетесь с душой другого человека. Человека, который решил излить вам свои чувства – оттого, быть может, что вы раскрыли ему свои. Такому человеку нужно смотреть прямо в глаза. Тихонько, сочувственно поддакивать. И слушать, просто слушать, очень внимательно, чтобы ваш собеседник знал: то, что он говорит, идет прямо к вашему сердцу. Очень мало кто так умеет.