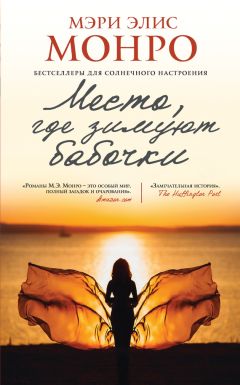Эсперанса стояла у раковины, и весь ее статный облик свидетельствовал о врожденном достоинстве независимо от того, чем она занималась и где. За ее спиной на кухонном столе громоздились горы перемытых кастрюль и сковород. Взор ее был обращен вниз, и она сосредоточенно вытирала фартуком покрасневшие от воды руки. Ее длинная коса съехала с затылка и упала на плечи. Когда она подняла глаза на внучку, у Луз перехватило дыхание: бабушка на глазах постарела. Глубокие морщины залегли по всему лицу. Но вот их глаза встретились, и бабушка ей улыбнулась. Правда, улыбка получилась какая-то очень грустная. Так улыбаются побежденные и окончательно сломленные люди.
Луз ощутила новый приступ тревоги.
– Бабушка, с тобой все в порядке? Я могу остаться дома и никуда не ехать. Салли все поймет правильно.
– Со мной все в порядке. Не волнуйся. Беги к своему кавалеру, пока он своим клаксоном не перебудит всех собак миссис Родригес. Вот тогда они уж дадут всем нам жару.
– Если что, позвони мне. Я беру с собой сотовый.
Машина опять просигналила, и, как по команде, обе собаки соседки зашлись в приступе истеричного лая. Эсперанса и Луз понимающе переглянулись и рассмеялись тихонько, как двое воришек в чужом саду. Луз подбежала к бабушке, схватила ее за плечи и с разбегу чмокнула в щеку.
– Как видишь, я тоже могу быть импульсивной.
– Всегда приятно, когда это от чистого сердца.
– Спасибо тебе за машину, – вырвалось вдруг у Луз. – Ты права. Машина – она просто чудо! Я люблю тебя. Родная моя!
– Мое солнышко. – Эсперанса ласково погладила ее по руке. – Ступай же!
Луз медлила, что-то ее не отпускало.
– Бабушка! Ты же не собираешься улететь вместе с бабочками в свою Мексику, пока меня не будет дома, ведь так? – И она улыбнулась не без лукавства.
Эсперанса тоже ей улыбнулась, и в глазах ее засиял странный свет, но она промолчала.
Бабочки-данаиды, появляющиеся на свет осенью, поистине уникальны. Те, что рождаются весной и летом, живут не более двух-четырех недель. Но четвертое поколение осенних данаид ведет себя по-особенному. Они не соединяются в пары и не обзаводятся потомством. Движимые исключительно инстинктом, эти создания летят на юг. Их называют долгожительницами, бабочками из поколения Мафусаила. И действительно, живут они по шесть-семь месяцев.
Утренний свет потоком лился в окно. Яркие солнечные лучи разбудили Луз. Она свернулась калачиком и отвернулась к стене. Ужасно хотелось спать. Снова погрузиться в тот изумительный сон, который она только что видела. Мириады разноцветных бабочек, желтых, изумрудных, небесно-голубых и оранжево-черных… Они кружились в мерцающем свете, вырисовывая в танце силуэт незнакомой женщины. Почему-то сон наполнил душу Луз непонятной ей радостью. Эта женщина, повелительница бабочек… Луз не смогла разглядеть ее лица, но она догадалась, что во сне к ней приходила мама. Ее мать, Марипоса. Так хотелось протянуть руку и коснуться ее. Но стоило Луз слегка пошевелиться, как хоровод бабочек мгновенно распался и их повелительница исчезла с ними.
Зажмурившись от слепящего солнца, Луз продолжала ловить остатки сна. Но никогда, никогда ей не стать такой же прекрасной и отважной богиней! И при мысли, что мамы так давно нет рядом с ней, у нее вдруг заныло сердце.
Луз отбросила простыни, вскочила с постели и окинула взглядом свою крохотную спаленку. Лучи солнца легко скользили по розоватым обоям, падая на старомодный беленький туалетный столик с зеркалом, тоже в белой раме. На стенах – множество коробочек с засушенными бабочками, их разноцветные крылышки видны сквозь прозрачные крышки. Этот детский мир создали мамины руки, и с тех пор здесь ничто не изменилось, хотя девочка давно выросла, став взрослой девушкой. Но эти оборочки, складочки, рюшечки на оконных занавесках и ночных шторах – все то немногое, что осталось на память от мамы и что продолжает связывать ее с далеким детством и всеми его фантазиями и мечтами.
Луз тихонько прошла в холл и затем в ванную, одну на двоих с бабушкой. Умылась над раковиной, промокнула лицо толстым махровым полотенцем и, чуть опустив его, вгляделась в свое отражение в зеркале. Ее глаза, бледно-серые, похожие на серебристую ртуть, в зависимости от освещения могли менять цвет от зеленого до бирюзово-голубого. Глаза, цвет которых зависит от малейшей перемены в ее настроениях, как говорит Салли. А вот бабушка считает, что глаза у нее – как у гринго, то есть как у иностранца, ни слова не понимающего по-испански. Гринго для бабушки – все как есть чужаки. Впрочем, отчасти так оно и есть. Ведь Луз достались глаза отца, которого она ни разу в жизни не видела.
Что ж, светлые глаза, то зеленые, то голубые, – это у нее от отца-немца, а матовую нежную кожу с легким оттенком загара она унаследовала от матери-мексиканки. Черные волосы, иссиня-черные, как верхний край крыла у бабочек-данаид, и слегка выступающие вперед скулы, и прямой нос – этим богатством ее наделила бабушка и ее предки майя. Луз отвернулась от зеркала и бросила влажное полотенце в бельевую корзину. Некоторые находят ее весьма хорошенькой, но приходится признать очевидное: до богини она не дотягивает.
Луз принялась торопливо расчесывать волосы, густой блестящей волной рассыпавшиеся по плечам. Волосы, предмет ее тайной гордости, густые у нее тоже от бабушки. Она наскоро собрала их в тяжелый пук и перехватила на затылке эластичной резинкой. Шикарная прическа в цеху ей совсем ни к чему. Затем, проворно натянув на себя свитер и старые джинсы, обув ноги в удобные теннисные туфли, Луз снова вышла в полутемный холл и включила свет. Странно, но в доме необычно тихо, отметила она про себя с удивлением. Обычно в такой час бабушка уже негромко брякает на кухне посудой, призывно кипит чайник, доносятся зажигательные ритмы ранчеро – музыки, которую любят и до сих пор исполняют в мексиканских деревнях. Луз вдохнула полной грудью, принюхалась и не почувствовала никаких вкусных запахов приготовляемого завтрака. Обычно по утрам у них аппетитно пахнет маисом.
– Бабушка, ты где? – громко позвала она и заторопилась на кухню. Там было темно. Плита тоже не была включена. Недоброе предчувствие заставило Луз содрогнуться. Неужели бабушка снова в саду и мерзнет на холоде? Она опрометью бросилась к дверям.
Небольшую застекленную веранду бабушка соорудила сама, своими руками, с помощью тех инструментов, которые имелись у них в доме. На низкой деревянной полке стояли стеклянные сосуды-аквариумы. Их было много, но все они были пусты. Зато в летнюю пору аквариумы заполняются молоденькими листьями молочая – их активно пожирают вечно голодные черно-желтые гусеницы будущих бабочек-данаид. Десятки, сотни куколок свешиваются с прозрачных крышек, напоминая собой яркие изящные фонарики цвета нефрита. Гусеницы такие подвижные, что бабушка не всегда успевает собрать всех, пока чистит их жилища. Луз до сих пор помнит, как ребенком часами ползала по полу, выколупывая из щелей завалившихся туда куколок. Они могли притаиться где угодно: на полке, в любой нише в стене, прилепиться к деревянной балке на потолке, зацепиться за оконную занавеску и даже приклеиться к грубой поверхности обычного глиняного горшка.
А потом в один прекрасный день все гусеницы превращаются в бабочек и улетают на юг. Их жилища пустеют, разве что на дне какого-нибудь из аквариумов остаются лежать засохшие листья молочая да болтаются кое-где редкие высохшие куколки, похожие на обрывки прозрачной бумаги. Луз широко распахнула дверь веранды. В лицо пахнуло холодом и сразу же запахло осенью. Луз прищурилась, оглядываясь по сторонам, и шагнула на ступеньку крыльца, прикрытого сверху навесом.
– Бабушка! – позвала она снова, но и этот ее зов остался без ответа.
Участок, где располагались их дом и сад, был небольшим и с двух сторон отгороженным от соседних участков густым частоколом. Бабушка приобрела бунгало, вложив в эту покупку все свои сбережения, вскоре после рождения Луз. Спустя несколько лет умерла Марипоса, и бабушке пришлось засучить рукава и трудиться не покладая рук, поднимая одновременно и внучку, и сад.
Но сейчас в саду ее не было. Входная дверь неприятно пискнула, когда Луз отпустила ее. Она обхватила себя руками, пытаясь согреться. Прочь нехорошие мысли! Однако вид холодной пустынной кухни, самого их любимого места в доме, их прибежища от всех напастей и неприятностей, напугал ее, и она почти физически ощутила, как стынет кровь в ее жилах.
Дом-то ведь небольшой. Оставалась одна-единственная комната, куда она еще не заглянула, – спальня бабушки. Но трудно было вообразить, чтобы ее такая трудолюбивая и дисциплинированная бабушка могла просто так, без дела, праздно валяться в постели в утренний час. Если только она не заболела. Ноги Луз налились свинцом. Огромным усилием воли она заставила себя снова вернуться в холл. Тишина в доме стала казаться ей нестерпимой и давила пугающей тяжестью. Дверь в спальню бабушки была открыта, но в комнате было почти темно от плотно задернутых штор.