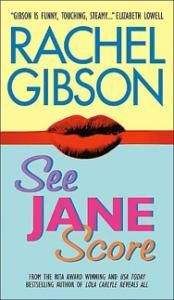Владимир Жаботинский
Ницца la Bella
Одесская сказка.
Когда оба собеседника спустились с крыльца и обогнули дом, старший из них — господин с глубоко сидящими глазами и сосредоточенным выражением лица — указал на вывеску, что висела над дверью кондитерской, принадлежавшей буфету казино. Он сказал по-французски, с очень резким акцентом иностранца, но правильно:
— Смотрите, вот из чего ясно, что дела Ипсиланти идут плохо.
Его спутник поглядел на вывеску и расхохотался. Он наклонился к уху сосредоточенного господина и крикнул очень громко, как кричал глухим:
— Ventre-saint-gris [1], - вы правы, милорд!
«Милорд» расслышал и кивнул головой. Действительно, по вывеске юркого содержателя буфета в одесском casin`o можно было судить, каковы успехи греческого восстания.
Этот почтенный негоциант явился в Одессу из Триеста. Его происхождение решительно невозможно было определить: он называл себя Черноконичем, в качестве истрианского славянина, и Каваллонеро, в качестве истрианского итальянца; таким образом он оказался родным для двух главных элементов населения молодого города, но так как здесь было много греков, то он перевел свою фамилию на благородное аттическое наречие и стал называться еще и третьим именем — Меланиппиди.
А так как Одесса была одним из центров, откуда греческие повстанцы получали помощь, — и не только деньгами, — то ясно, что на вывеске лавочки отражались все перипетии войны. Поэтому когда Каподистрия написал Ипсиланти знаменитое письмо, поразившее горем всю Грецию, фамилия «Меланиппиди» исчезла с вывески Черноконича (он же Каваллонеро), а тотчас после японской истории это имя опять заняло свое место.
Но теперь на вывеске снова значилось только: «Cantina e pasticceria di Niccolo` Cavallonero — Crnokonich» [2]. Слово «Melanippidés» было густо замазано черной краской, следовательно, дела Менохира — как называют героя-князя здешние греки — шли неважно.
Но, хотя Черноконич и был пройдоха, кормил он все-таки очень порядочно и давал хорошее вино. «Милорд» и его спутник вошли поэтому в казино и уселись за столик. Спутник «милорда» весело кивнул головою хорошенькой брюнетке, стоявшей за стойкою буфета, и закричал:
— Eh, signorina Nizza la Bella, come sta? [3] Прикажите подать нам чего-нибудь piquant! [4]
Ницца притаилась за стойкой и стала в упор смотреть на обоих. Глухого «милорда» она не любила: вообще, англичане ей не нравились, а уж этот — бог с ним. Зато другой, темноглазый, веселый, со странным контрастом смуглого лица и светлых вьющихся волос, в красной рубахе под модной альмавивой, очень интересовал ее. Его здесь окрестили Sandro — подруги Ниццы называли его даже il brutto Sandro [5], хотя Ницце он вовсе не казался «некрасивым», и девушка знала, что он здесь не по своей воле, а в наказание за какие-то выходки в Петербурге или Москве. В чем эти «выходки» заключались, Ницца не знала, но вся местная молодежь окружала Сандро таким вниманием, что на этот счет не оставалось сомнений: верно, он сделал что-нибудь очень геройское.
С Ниццой его познакомили уже месяц тому назад: Мандрони сам представил его своей невесте по настоятельной просьбе Сандро, которому уши прожужжали рассказами о красоте этой шестнадцатилетней Ницца la Bella. Мандрони молод и красив, соперников он не боится — да и без того у Ниццы много обожателей; и ведь этого изгнанника недаром называют bruto Sandro — опасаться было нечего.
Сандро действительно оказался не опасным. Он не увивался за Ниццой — может быть, ему казалось это непозволительным по отношению к Мандрони — и даже мало говорил с нею; иногда только его глаза встречали взгляд девушки. И тогда он откровенно и свободно любовался ее точеным личиком и миндалевидными карими глазами.
Ниццу он удивил. На вопрос подруг она как-то ответила, что Сандро ей кажется cos`i stravagante… [6] В нем было что-то особенное. Ницца не могла объяснить, что именно: ей только казалось, что он совсем не такой беззаботный, как кажется, и что если бы он меньше хохотал, а больше грустил, то это вернее передавало бы истинное настроение его души. Таких она еще не видела: одесские giovinetti [7] смеялись всегда как дети, а у этого Сандро казалось, что его смех — веселая музыка в правом конце клавесина, тогда как в левом тянется печальный, рыдающий аккомпанемент — вроде Miserere…
Как бы то ни было, синьор Черноконич был очень рад: прежде его дочка почти никогда не соглашалась посидеть в буфете казино, а теперь — вот уже три недели- она проводит там часа по три в день. Manco male, и за то спасибо.
Ницца смотрела на Сандро, с аппетитом уничтожавшего котлету, и старалась вслушаться в разговор его с глухим инглези [8]. Говорил «милорд», а Сандро слушал и ел.
— Я думаю, — объяснял «милорд» на своем французском языке, — что одно из двух: или он все может — тогда он не добр, потому что заставляет нас страдать; или его силе есть пределы — а тогда к чему он нам? И вообще я думаю, что глупо объяснять загадки при помощи понятия, которое само нуждается в объяснении своего появления. — Да-а, — протянул Сандро негромко, забывая, что глухой англичанин его не слышал.
— Да-а… Все это так, но это, parbleu [9], нисколько не отрадно… Красоты в этом нет, понимаете, милорд, красоты. Плохо…
Тут он выпил рюмку вина, поставил ее и вдруг, вспомнив что-то, вскочил и подошел к стойке.
— Синьорина Ницца!
— Что? — спросила она по-русски.
Ницца говорила по-русски очень правильно: она окончила «Градское девичье училище».
Сандро тихо сказал:
— Мне поручили поговорить с вами, синьориночка. Поговорить и даже побранить, con permesso, с вашего позволения, конечно. Где бы это можно было? Вы сегодня вечером будете в театре?
— Я попрошу папу.
— Benissimo — e arrivederci presto [10]. Но непременно!
* * *
Синьор Черноконич, прекрасно понимавший свои выгоды, в 1817 году пожертвовал на устройство порто-франко четыре тысячи серебром. Поэтому теперь он считался «степенным гражданином» г. Одессы и владел абонементом на ложу за полцены.
Ложа была обита стареньким красным сукном и оклеена обоями. В ней стояло пять стульев, но считалось неприличным, если являлось более трех лиц.
В этот вечер Арриги пела Розину, и так пела, что в конце действия Ницца заметила слезы у себя на глазах. Синьор Черноконич был тоже очень доволен и заснул только в антракте. Ницца тихо сидела на своем стуле и осматривала «платею», украдкой отыскивая Сандро. Но в platea [11] его не было.
Ницца подняла глаза к ложам и увидела его. Сандро сидел в ложе прямо против palchetto [12] Черноконича, и с ним была дама, которую Ницца знала: это была одна из первых красавиц города, недавно приехавшая сюда и уже имевшая много поклонников и неприятельниц. Ее муж был родственником и соотечественником самого синьора Черноконича.
* * *
Сандро сидел в ее ложе и казался очень доволен. Его глаза сверкали так весело, что даже зоркая Ницца не нашла в них ничего напоминающего о затаенной грусти, которая постоянно чудилась ей в смехе Сандро. С него она перевела взгляд на его даму, на ее пышное декольте, выпятила вперед нижнюю губку и презрительно шепнула:
— Fi che scollacciatura! [13]
Сандро увидел ее, ласково кивнул ей и выбежал из той ложи. Через минуту он сидел рядом с Ниццей.
— Вы знаете, о ком я буду говорить?
Она пожала плечами, оглянулась на отца — он спал — и сказала:
— О Мандрони.
— О Мандрони. Вы очень догадливы. Браво! И было бы хорошо, дитя мое, коли бы вы были настолько же справедливы и добры, как догадливы.
— Разве я злая?
— Эх! Зачем такие ужасные слова употреблять. Злы ли вы? Не думаю. А впрочем, я лгу. Я это именно думаю. Вы — злая синьорина.
— Я!? Это вы несправедливы, да. В чем моя злость, говорите сейчас?
Сандро засмеялся.
— Ладно. Я вам скажу, в чем ваша злость. Мандрони вас любит? Раз. Вы — его невеста? Два. Но вы запретили ему подымать разговор об этом, пока вы сами не заговорите. Теперь он сидит у моря и ждет погоды, потому что вы обеими ручками отмахиваетесь от каждого его слова. А он, бедный, в июле уезжает в Неаполь, и вас он страшно любит. Что же, не злая вы, синьориночка?
Ницца молчала. Ее головка была опущена, полудетская грудь, декольтированная по моде, тяжело дышала, а хорошенькие пальчики с розовыми, по-детски подрезанными ноготками тиранили голубой веер. Сандро взглянул на этот веер и удивился.
— Эге! — воскликнул он. — Вот что значит южная кровь! Да вы изорвали веер, дитя мое. Что с вами? Неужели вас так волнует этот разговор?
Ницца печально подняла на него глаза и увидела, что с его лица как будто сбежала насмешливая улыбка — или, вернее, сквозь эту насмешливость проглянуло что-то ласковое, участливое, доверчивое и вызывавшее доверие. У Ниццы в груди сладко-сладко сжалось сердце. А папа спал.