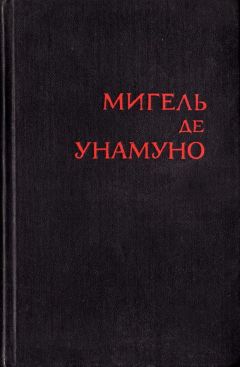Мигель де Унамуно
Простодушный дон Рафаэль, охотник и игрок
Когда думы уносили его в прошлое и воспоминания о минувшей любви наполняли его душу, он острее чувствовал бег времени, скольжение пустых, легких, как воздух, часов.
Те глаза! Они уже не светили ему, они остались где-то там, в туманной дали, угаснувшие для него навсегда, и эхо забытых слов звучало глухо, как за горою шум моря. И только в самой глубине его сердца что-то звучало. Шепот скрытых родников.
Жизнь была пуста, и он был один, совсем один. Один, наедине со своей жизнью… Чтобы хоть чем-то заполнить ее, он ходил на охоту и играл в ломбер. И все-таки он не был печален. Душа его была проста, и это героическое простодушие не желало знать о печали. Когда кто-нибудь из его партнеров по игре старался найти карту, чтобы забрать все взятки, дон Рафаэль обычно повторял, что есть вещи, которых искать не следует: они приходят сами. Он был провиденциалистом, то есть верил во всемогущество случая. Может быть, верил только для того, чтобы во что-то верить и занять чем-то свои мысли.
— И почему вы не женитесь? — поджав губы, спросила его однажды экономка.
— А почему я должен жениться?
— Может быть, тогда вы не будете ходить как потерянный.
— Есть вещи, сеньора Рохелия, которых не следует искать: они сами приходят.
— Вот именно, когда уже и не думаешь о них.
— Да, как в игре! Но, видите ли, есть причина, которая заставляет меня думать об этом…
— Что же это за причина?
— Я хочу умереть спокойно, не сделав духовного завещания.
— Ну и причина! — воскликнула встревоженная экономка.
— Для меня она единственно стоящая, — ответил он, смутно ощущая, что важны вовсе не причины, а то значение, которое придается им.
Сверток на пороге его дома. Он нагнулся, чтобы лучше разглядеть. Что-то шевельнулось там, внутри. Как воспоминание. Да, сверток шевелился. Он поднял его: теплый. Развернул: новорожденный. Он все смотрел и смотрел, и в сердце своем он уже ощущал не только шепот, но и свежесть пробивающихся родников. «Славную дичь послала мне судьба», — подумал он.
Дон Рафаэль вернулся домой с ружьем на ремне, держа в руках сверток. Он поднялся по лестнице на цыпочках, — чтобы то, что лежало в свертке, не проснулось, — и несколько раз тихо постучал в дверь.
— Вот я принес это, — сказал он экономке.
— А что это такое?
— Кажется, ребенок.
— Только кажется?…
— Его оставили на крыльце.
— А что же нам делать с ним?
— Ну… что делать? Очень просто: воспитывать!
— Кто будет воспитывать?
— Мы оба.
— Я? Я не буду!
— Найдем кормилицу.
— Да в своем ли вы уме, сеньорито! Прежде всего, нужно поставить в известность судью, а этого — в приют!
— Бедняжечка! Нет, только не в приют.
— Конечно, хозяин здесь вы.
Первые дни ребенка из милосердия кормила соседка, но вскоре врач дона Рафаэля нашел чудесную кормилицу — молодую одинокую женщину, которая только что произвела на свет мертвого ребенка.
— Как кормилица она превосходна, — сказал дону Рафаэлю врач, — а как человек… Видишь ли, оступиться может каждый.
— Только не я, — ответил с присущим ему простодушием дон Рафаэль.
— Лучше всего было бы, — сказала экономка, — чтобы она взяла его воспитывать к себе.
— Нет, — возразил дон Рафаэль, — в этом кроется большая опасность: я не доверяю ее матери. Нет, здесь, только здесь, у меня на глазах. И не нужно расстраивать кормилицу, сеньора Рохелия, ведь от этого зависит здоровье ребенка. Я не хочу, чтобы из-за огорчений Эмилии у нашего ангелочка болел живот.
Эмилии, кормилице, было лег двадцать; высокая, стройная, чем-то напоминавшая цыганку, она ходила как курица, которую обхаживает петух. Глаза ее вечно смеялись. Невероятно темный цвет их подчеркивал рамку иссиня-черных волос, падавших на виски, как два тяжелых вороновых крыла. Яркие губы были полуоткрыты и влажны.
— А как вы собираетесь крестить его, сеньорито? — спросила сеньора Рохелия.
— Как сына.
— Да вы что, сумасшедший?
— Может быть.
— А если завтра по этому медальону, что на нем, и каким-нибудь приметам его найдут настоящие родители?
— Настоящие родители — это я: и отец, и мать. Я не ищу детей, как не ищу и хорошей карты; но когда они сами приходят… я готов их принять. И я уверен, что в таком случае родительские чувства — самые чистые и свободные: они подчинены не инстинкту, а доброй воле. Не моя вина, что он родился. Вырастить его будет моей заслугой. Нужно верить в провидение хотя бы для того, чтобы верить во что-то: это утешает, и, кроме того, теперь я могу умереть спокойно, не сделав духовного завещания: мальчик по праву наследует мне.
Сеньора Рохелия кусала губы. Когда же дон Рафаэль окрестил ребенка и велел записать его как своего сына, это вызвало смех у всей округи. Но никто не заподозрил дона Рафаэля ни в чем худом: слишком хорошо все знали его кристально чистую душу. Экономка вынуждена была, вопреки своему желанию, примириться и ладить с кормилицей.
Теперь дон Рафаэль думал не только об охоте и ломбере. Теперь его дни были заполнены, дом зажил новой жизнью, яркой и простой. Теперь он нередко проводил бессонные, беспокойные ночи: слыша крик ребенка, он шел к нему, брал на руки мальчугана и успокаивал его.
— Он прекрасен как солнце, сеньора Рохелия. Да и с кормилицей, мне кажется, нам повезло.
— Как бы она не принялась за старое…
— Об этом уж я позабочусь. Это было бы изменой, вероломством: она должна быть с ребенком. Но нет, нет; этот парень, что ее обманул, уже ей опостылел: ведь он бездельник, первостатейная бестия.
— Не очень-то верьте… Не очень-то верьте…
— Я собираюсь оплатить ему проезд в Америку. А ее нужно пожалеть, она — бедняжка…
— До первого случая…
— Я говорю, что не допущу этого!
— Ну, если она захочет…
— А-а, что касается этого, то да! Видите ли, если сказать вам правду, правда заключается в том, что…
— Да я догадываюсь.
— Но прежде всего я забочусь о сыне!
Эмилия вовсе не была дурочкой, и удивительное простодушие этого старого холостяка, который, казалось, живет в каком-то полусне, поражало ее. Она сразу же привязалась к младенцу, точно была его родной матерью. Приемный отец и та, что действительно вскормила ребенка своим молоком, проводили долгие часы у колыбели, любуясь спящим ребенком, тем, как он во сне улыбался и чмокал губами.
— Вот оно, что такое человек! — говорил дон Рафаэль.
И взгляды их встречались. Случалось, что дон Рафаэль подходил поцеловать младенца, когда Эмилия держала его на руках. Дон Рафаэль наклонялся, и его щека почти касалась щеки кормилицы, а черные ее локоны задевали его лоб, Иногда он созерцал одну из ее белых грудей-близнецов, набухших щедрыми соками жизни, видел голубые жилки, змеившиеся под прозрачной кожей. Поддерживая грудь расставленными веретенообразными пальцами — указательным и средним, она склонялась с голубиной кротостью над ребенком. И снова у отца возникало желание поцеловать сына, а когда его лоб касался груди, он чувствовал ее тепло и трепет.
— Ах, как мне жалко, солнышко мое, что я скоро тебя покину! — восклицала Эмилия, прижимая мальчика к груди, словно он мог понять ее.
Дон Рафаэль молчал.
Часто кормилица, укачивая ребенка, пела ему ту древнюю и монотонную, ту сладостную песню, которую матери передают одна другой от сердца к сердцу и все же всегда создают заново, сочиняя каждая свою, вечно новую и все ту же, единственную как солнце. Дон Рафаэль слушал песню, и она была для него словно отзвук далекого, почти забытого детства. Качалась колыбель, и, вторя ритму этого движения, билось сердце отца.
И смешивалась эта песня
с шепотом скрытых родников его сердца,
погруженное в туманную дымку прошлого.
«Какой хорошей матерью она стала!» — думал он. Однажды, говоря о несчастье, которое сделало ее кормилицей, дон Рафаэль спросил:
— Послушай, девочка, как же это могло случиться?
— Вы же знаете, дон Рафаэль! — И щеки ее слегка зарделись, почти неприметно.
— Да, ты права, я знаю!
Однажды ребенок тяжело заболел; настали дни и ночи, полные отчаяния. Дон Рафаэль приказал Эмилии спать с ребенком в его комнате.
— Но, сеньорито, — сказала она, — как же мне спать здесь?…
— Да очень просто, — ответил он с обычным своим простодушием, — спать как спится.
Ведь для этого человека, который сам был воплощенным простодушием, все было просто. Наконец врач объявил, что опасность миновала.