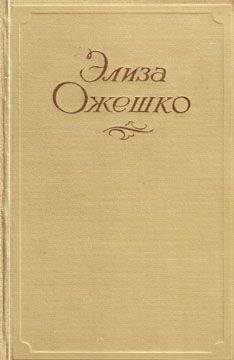Из жизни женщины
Это был один из тех дворов, какие можно встретить только в провинции. С улицы к этому огромному, немощеному двору примыкал большой, довольно красивый деревянный дом, а в глубине стояло длинное низкое полуразрушенное строение; его средняя часть, почти совсем развалившаяся, служила дровяным сараем и свалкой для мусора, а в обоих крылах впритык к забору помещалось по квартирке с двумя небольшими окошками и узенькой дверью, отделенной от земли двумя-тремя полусгнившими ступеньками. За забором, по одну сторону двора, тянулся огород и фруктовый сад. А по другую сторону, на участке, с давних пор заброшенном, новый владелец его строил теперь каменный дом, — пока что были возведены только красноватые стены, в которых зияло несколько рядов квадратных отверстий, оставленных для окон.
В одном из углов двора, за стеклами маленького окошка, красовались, словно выставленные в витрине, разноцветные рукоделия: салфетки, подставки, детские башмачки и т. п. …Кто мог увидеть здесь эту витрину и как она могла привлечь покупателей? Догадаться было также трудно, как понять, кто или что на пустынном дворе привлекло внимание женщины, застывшей, тоже словно в витрине, у окна другой квартирки.
Это была пани Эмма Жиревичова, некогда славившаяся в кругу почтовых служащих своей добротой и привлекательной внешностью, дочь помощника почтмейстера, а впоследствии жена Игнатия Жиревича, чиновника, занимавшего видную и доходную должность. Несколько лет назад она овдовела и жила на проценты с маленького капитала вместе с дочкой, единственной, оставшейся в живых из троих ее детей.
Люди, знавшие Жиревичову в ранней молодости, утверждали, что ей уже под пятьдесят. Но, глядя на нее, трудно было этому поверить. Она казалась по крайней мере лет на десять моложе. Пани Эмма была когда-то очень красива, хотя и несколько худощава и бледна; она до сих пор еще сохранила стройную и гибкую фигуру, нежный цвет лица, бирюзовую синеву глаз и голубиную кротость взгляда. Только внимательно присмотревшись к ней, можно было заметить густую сеть мелких морщинок на белом лбу, красноватый ободок у поблекших век и две складки возле рта. В ее завитых локонах под воздушным чепчиком пробивалась уже седина. На вдове было черное платье, в пятнах, в заплатах, но длинное до полу и отделанное бантами со свисающими концами.
Комната, в которой сидела Эмма Жиревичова, чем-то очень была похожа не ее платье.
Довольно просторная, но низкая, с грязными стенами и еще более грязной плитой в углу, комната эта вместе с крохотными сенями составляла всю квартиру. Грязные стены подпирали бревенчатый потолок, с которого спускались живописно задрапированные лохмотья некогда дорогих занавесей, почему-то украшенные жалкими веточками плюща. Столов, стульев и шкафов было немного, да и те были старые и дешевые. Особенно выделялся здесь рояль; правда, лак на нем уже облупился, но все-таки он напоминал о былой зажиточной жизни, услаждаемой искусством. Напротив грязной плиты, наполовину завешенной давно нестиранной зеленой ситцевой занавеской, у самого окна стоял мягкий диванчик, покрытый пестрым ковриком, и на нем-то как раз и сидела сейчас хозяйка квартиры и скучающим, грустным взглядом блуждала по большому безлюдному двору.
Белые, нежные руки Эммы, сжимавшие кусочек вышитого батиста, покоились на одной из заплат ее изящного и красиво отделанного платья. Печальные, должно быть, мысли мелькали в голове вдовы, так как она вздыхала, а на лбу ее не раз появлялись глубокие морщины. Однако, заметив входившую в ворота женщину, она оживилась и даже немного повеселела. Это была всего-навсего старая оборванная нищенка с морщинистым лицом. Постукивая палкой о камни, она направилась прямо к окну Жиревичовой, — для нее это было, очевидно, делом привычным.
— Да будет благословен… — послышался за окном ее дребезжащий, хриплый голос.
— Во веки веков! — ответила Жиревичова, приветливо кивнув головой; она торопливо достала из ящика стола медную монету, приоткрыла окно и с улыбкой подала нищенке милостыню.
— За упокой души Игнатия, — сказала она. — Прочти, моя милая, «Ангел господний» за упокой души Игнатия.
— И да воздаст вам бог! Я-то уж знаю, за чью душеньку, благодетельница моя, вы всегда молиться просите. «Ангел господний возвестил…»
И тут же, стоя под окном и опираясь на палку, она начала бормотать молитву. Эмма, казалось, тоже тихонько вторила ей: она шевелила губами, устремив глаза к небу.
— Всегда-то вы, благодетельница моя, одна-одинешенька сидите, — завела разговор нищенка.
— Одна, моя милая… что поделаешь? Одна…
— Доченьку вашу я встретила… в Блотном переулке… корзину с бельем на каток несла. Ох, ох! Корзина такая тяжелая, что паненка под ней, словно тростинка, гнулась… Ох, и трудится, бедняжка, ох, как трудится…
На этот раз вдова густо покраснела.
— Ей так нравится, — ответила она поспешно. — Такой уж у нее характер. Ведь в том нет нужды… никакой нужды.
— Ох, ох! Да какая там нужда, — угодливо подхватила нищенка. — Дело известное! У господ бывают иногда причуды… Да будет благословен…
Нищенка собралась уходить, но Жиревичова беспокойно заерзала на диване. Ей, видимо, неловко было задерживать нищенку и в то же время не хотелось лишиться хотя бы такого общества.
— Скажи-ка, милая, — спросила она, — что сегодня в городе? Народу много? А?
— Ох, ох! Почему бы и нет. Денек погожий, теплый. На Огродовой улице протолкнуться нельзя, столько там господ гуляет, а дамы так разодеты, что в глазах рябит, когда на них глядишь.
Вдова вздохнула. Веки ее покраснели еще сильнее, на глазах выступили слезы.
— А в саду музыка играет? — спросила она совсем тихо.
— Ах, ах, на весь город гремит. А почему бы вам, благодетельница моя, не выйти погулять, на ясное солнышко да на всякую всячину поглядеть? Ох, ох, прямо жалость берет, когда смотришь, как такая красавица изводит себя в тоске и одиночестве!..
Ни за что, ни за что на свете не призналась бы Эмма даже этой скромной своей собеседнице, что она не может выйти в город, потому что у нее нет приличного платья, шляпы и накидки. Силясь улыбнуться, но со слезами на глазах она ответила:
— Где уж мне, милая, о таких вещах думать, если я, вдова, другом своим и всем светом покинутая…
Громко вздыхая и сочувственно покачивая головой, нищенка продолжала:
— Ох, бедняжка моя, бедняжка! Покойник, дай бог ему царство небесное, хороший был человек, хороший…
— Еще бы! Очень хороший. Лучшего не найти, — вскричала вдова и залилась слезами. Она громко всхлипывала, приложив платок к глазам. А нищенка попрежнему стояла, опираясь на палку, и сочувственно бормотала:
— Бедняжка! Бедняжка! Как она мужа своего жалеет! Как убивается! Вот сердце, золотое!
Вдруг, как раз в то мгновение, когда вдова отняла платок от лица, между воротами и подъездом дома, стоявшего напротив, промелькнула фигура мужчины.
— Ах! — воскликнула Эмма, вскочив с дивана. От ее слез не осталось и следа, страдание отступило перед радостью, к которой примешивалось живейшее беспокойство. — С богом! С богом, милая! — сказала она нищенке и быстро захлопнула окно.
Но нищенка, вероятно, по давнему опыту знала, что за беседу, выслушивание дружеских признаний и проявление сочувствия ей причитается соответствующее вознаграждение. Следовательно, она заработала лишний грош и вовсе не собиралась упустить его.
— Благодетельница! Подайте еще что-нибудь такой же, как и вы, несчастной вдове.
Слова «такой же, как и вы» произвели неприятное впечатление на пани Эмму. Она чуть заметно вздрогнула, гордо вскинула голову, но не решилась сказать в ответ резкое или гневное слово. Она быстро приоткрыла и тут же захлопнула форточку, швырнув нищенке первую попавшуюся под руки, на этот раз серебряную, монету, и, сказав: «Ступайте, ступайте с богом», отошла от окна.
Пани Эмма встала посреди комнаты и окинула ее быстрым взглядом. Потом подбежала к роялю, открыла его и поставила на пюпитр потрепанные нотные тетради; вытащив наспех из шкафа какую-то накидку, она вытерла ею пыль со столика, стоявшего перед диванчиком. Потом бросилась к кособокому комоду, у которого сохранились только две ножки, выдвинула один из ящиков и красиво уложила на выщербленной фарфоровой тарелке немного печенья и конфет, извлеченных из бумажного пакетика. Затем она осмотрела свой наряд и, заметив спереди на платье заплатку, прикрыла ее концом свисавшей с пояса ленты и заколола булавкой. Наконец, чуть-чуть запыхавшись, она снова уселась на диванчике и уставилась на подъезд дома, выходившего на улицу. На щеках у нее выступил легкий румянец, глаза разгорелись в предвкушении приятной встречи, и она словно помолодела еще лет на десять.