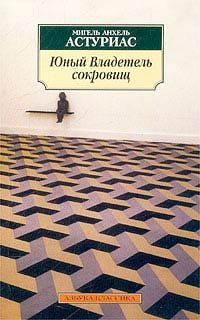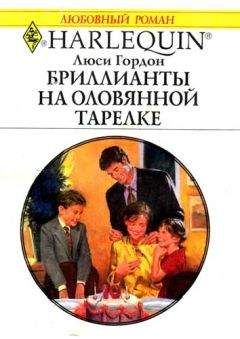Мигель Анхель Астуриас
Глаза погребенных
— Сосут и сосут эти гринго!
Не сдержалась Анастасиа — да, просто Анастасией звали ее, эту женщину без роду, без племени, неопределенных лет и без особых примет; впрочем, как все люди улицы, ничего она не скрывала. Заглянула она в таверну «Гранада» — здесь и дансинг, и бар, и ресторанчик, где продают мороженое, отдающее парикмахерской, шоколадки в оловянной фольге, многослойные сандвичи, прохладительные с пеной в тысячу расцветок, заграничное спиртное — и вместо привычного «доброе утро» бросила:
— Сосут и сосут эти гринго!
Распахивались двери в огромный, вместительный зал, заставленный круглыми приземистыми столиками и массивными неуклюжими креслами, обитыми рыжеватой кожей (такие кресла удобны для бездельников и выпивох); столики из пористого дерева ежедневно оттирали шкуркой, не прибегая к мокрой тряпке, оттого они выглядели всегда свеженькими, новенькими, будто только что внесены сюда.
Все здесь блистало чистотой — будто только-только обновили все, — если, конечно, не брать в расчет чистильщиков обуви, жалких, грязных, оборванных ребятишек, похожих на старичков с детскими голосками:
— Почистить!.. Кому почистить?.. Почистим, клиент?.. Одним махом, клиент!..
Все здесь блистало, как новенькое, в десять часов утра. Впрочем, почему в десять — стрелки уже подступали к одиннадцати!..
Новым казался и цементный пол, отливавший глазурью; как новые, искрились свежепротертые оконные стекла и зеркала, в которых цветастыми сполохами отражались сверкающие автомобили, проносившиеся по Шестой авениде. Новыми в это утро представлялись и прохожие, высыпавшие на тротуары; они сталкивались друг с другом, обгоняли друг друга, на ходу приподнимая шляпы, рассыпаясь в любезностях, обмениваясь взглядами, поклонами, рукопожатиями. Новыми казались и стены таверны, расписанные по тропическим мотивам, и алебастровый потолок, и лампы отраженного света — хрустальные гусеницы, превращающиеся по ночам в дивных бабочек с флюоресцирующими крыльями. Новое время показывали часы. По-новому красовались официанты в черных брюках и белых курточках — совсем как тореро на бое быков. Новыми были и пропойцы — белобрысые гиганты, тупо созерцавшие хмельными голубыми глазами кишащий муравейник гватемальской столицы. И вновь слышался голос Анастасии:
— Сосут и сосут эти гринго!
Спозаранку расквартировались в «Гранаде» офицеры и солдаты в зеленоватой форме, потягивая whisky and soda, пережевывая чикле,[1] смакуя ароматные сигареты, лишь кое у кого торчали в зубах трубки, и всем им было наплевать на все, что происходило вокруг — в этой столице, в этой стране. В высшей степени были безразличны ко всему эти парни, одуревшие от угара надконтинентального величия своей Америки.
Утренние клиенты расположились за соседними столиками. Коммивояжеры не расставались и здесь с неразлучными своими компаньонами — чемоданчиками, набитыми образцами товаров; машинально проглатывали они завтрак, пожирая глазами яства, рекламируемые на глянцевитых страницах иллюстрированных журналов. Не хлебом единым… но и рекламой жив buisness man[2]. Порой в таверну заглядывали местные завсегдатаи, горевшие желанием с утра пораньше пропустить глоточек. А осушив стопку, сплевывали на улице: не по вкусу им было, что чужеземная солдатня тут торчит. Конечно, это союзники, но так и жди от них пинка в зад. Кое-кому, правда, не претило сидеть у стойки или за столиком рядом с янки, и вовсе не волновал их престиж родины; может, потому, что воспитывались они в Yunait Esteit[3] или когда-то работали в Yunait, они не только разговаривали по-английски, но, казалось, даже рыгали по-английски — во всю глотку. Попадались и такие, что выдавали себя за бывалых, много ездивших по свету людей, — и хотя по-английски они не говорили, да и не понимали ни слова, это им не мешало то и дело восклицать: «O'kay! O'kay, America!»
Солдаты чувствовали себя здесь как дома: одна нога вытянута под столом, другая закинута на подлокотник кресла. Расправившись с очередной дозой whisky and soda, они с размаху ударяли пустым бокалом о стол и принимались бормотать. Помолчат, побормочут, еще побормочут и опять помолчат. Будто телеграфируют друг другу. Иногда кто-нибудь, оторвавшись от сигареты или трубки, выдавал соленую остроту под громкий одобрительный хохот собутыльников. И рыжие, голубоглазые, белорукие парни, рассевшиеся у стойки бара, спиной к тем, что сидели в зале, тотчас поворачивались на крутящихся высоких табуретах и, не расставаясь с бокалом, пытались разглядеть, кто это так здорово рубанул, а потом разражались аплодисментами. И отовсюду сверкали, как у гренадеров императорской гвардии, золотые кольца на пальцах, золотые браслеты с золотыми часами на толстых запястьях…
— Сосут и сосут эти гринго!
— Тетенька, осторожней! Еще услышат!.. — подал голос худенький мальчуган, тенью следовавший за мулаткой.
— А пусть услышат… Говорю, что на душе лежит… Пусть слышат, ежели хоть единое слово разберут по-испански!..
Бармен принимал от клиентов заказы и, почесывая затылок, цедил сквозь зубы:
— Могло бы их принести и попозже… Подумать только, с самого рассвета окопались тут… эти — с военной базы…
Косоватые глазки, большой тонкогубый рот под жидкими отвислыми усами — бармен удивительно походил на акулу, притаившуюся в тени.
Из ящиков и корзин он выбирал бутылки и, вытаскивая каждую, словно шпагу из соломенных ножен, выстраивал их, как солдат, в боевом порядке. В авангарде шли бутылки виски, за этими ударными частями шествовали бутылки импортного и местного — подслащенного и тошнотворного — рома, а за ними — бутылки джина, точно прозрачные кирпичи, пылавшие белым огнем, бутылки коньяка с кичливыми призовыми медалями на этикетках, бутылки марочного вина, обернутые золотистой бумагой, бутылки ликера, напоминавшие сирен, запутавшихся в сетях…
И пока бармен выстраивал ряды бутылок, его помощник, обслуживавший посетителей, изливал душу:
— А оттого, что полынь растираю, сеньор Минчо, у меня лиловеют ногти, но что еще хуже — порой в голову бьет, бьет и бьет…
Резкий запах болеутоляющего эликсира, полынной — собственно, даже не полынной, а перно — кружил ему голову, а ногти его лиловели потому, что пальцами он крепко-крепко сжимал бокалы с кусочками льда, выжидая, пока капелька эликсира не придаст нужный колер белесовато-мутной жидкости.
— Тетенька, я пойду-у-у… — тянул мальчуган, устало переступая с ноги на ногу перед дверьми таверны.
— Ну, иди, иди… — подтолкнула мальчика мулатка.
Сразу как-то перекосившись и начав прихрамывать, скривив рот и приподняв одно плечо, чтобы вызвать больше жалости, мальчуган со шляпчонкой в руках вошел в таверну. Донельзя грязный, испещренный лишайными пятнами, в лохмотьях и босой, он приблизился к столикам, за которыми восседали белобрысые гиганты — рядом с ними мальчуган казался еще более черным. («Аи, — вздыхала мулатка Анастасиа на пороге, — совсем негритеночком выглядит мой мальчонка среди этой публики!») Солдаты, занятые жевательной резинкой, не переставая двигать челюстями — в такт жвачке они даже ушами шевелили, — бросили ему несколько монеток. Кто-то предложил мальчику виски, кто-то отпугнул горящей сигаретой. Официанты чистыми салфетками отмахивались от него, как от мухи.
Седеющий розовощекий сержант, обращаясь к кассиру, выглядывавшему из-за витрины с сигаретами, шоколадом, карамельками и другими сластями, кричал:
— Не пугат! Убиват надо, один щелчок… насекоми… Убиват… убиват… вес hispanish[4] насекоми!
И, довольный своей, как ему казалось, остротой, он разразился хохотом, а малыш спешно ретировался к двери — почти бежал под резкими взмахами салфеток в руках официантов.
— Сколько собрал-то… — вымолвила Анастасиа, зачерпнув в горсть монетки и прикинув на вес.
А мальчуган, оставив у нее шляпчонку, уже понесся выпрашивать афишку с львиными и конскими мордами, с портретами каких-то людей и неведомыми ему буквами — такие афишки раздавали прохожим около кинотеатра. Как бы ему хотелось быть одним из тех, кто распространяет эти афишки, — если бы разрешила тетя! Тогда можно будет смотреть кино задаром…
«Дева Мария, сидеть в темноте, да еще платить за это?.. — обрывала мальчика Анастасиа всякий раз, как он просился в кино. — Дома у нас электричества нет, так зачем же нам, беднякам, деньги еще платить? Стемнеет — вот и начинается наше кино. Нет, сыночек, жизнь и так дорога, зачем еще тратить… зрение на темноту!»
— Значит, hispanish — насекомые? — откликаясь на слова сержанта, спросил по-английски юноша, сидевший со своими друзьями за ближайшим столиком. — Вот вы называете нас насекомыми, а сами в нас нуждаетесь!