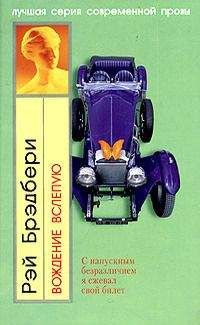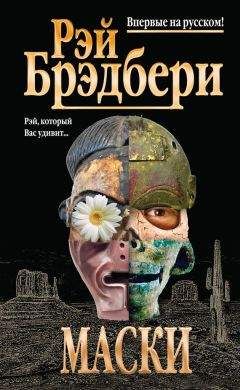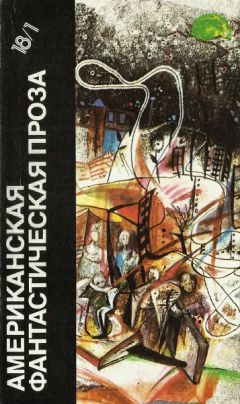Рэй Дуглас Брэдбери
Старый пес, лежащий в пыли
Говорят, этот город, Мексикали,[1] теперь сильно изменился. Будто бы и жителей там прибавилось, и фонарей стало больше, и ночи теперь не такие длинные, и дни куда веселее.
Но я не собираюсь туда ехать, чтобы только в этом убедиться.
Потому что Мексикали запомнился мне одиноким и неприкаянным, похожим на старого пса, лежащего в пыли посреди дороги. И если подрулить к нему вплотную и посигналить, он лишь вильнет хвостом и улыбнется рыжеватыми глазами.
Но больше всего мне врезался в память канувший в прошлое мексиканский цирк-шапито.
В конце лета 1945 года, когда где-то за тридевять земель отгремела война, а продажа бензина и автомобильных шин была строго нормирована, один из моих приятелей предложил прокатиться до Калексико вдоль моря Солтона.[2]
По пути на юг в дребезжащем «студебеккере» модели А, из которого валил пар и сочилась ржавая вода, мы останавливались в душные послеполуденные часы, чтобы нагишом ополоснуться в ирригационных каналах, образующих в пустыне зеленые полосы вдоль мексиканской границы. В тот вечер мы только-только въехали в Мексику и уплетали холодный арбуз, сидя на скамье в окруженном пальмами сквере, куда люди приходят семьями: веселятся, галдят, плюются черными семечками.
Мы бродили по неосвещенному приграничному городку босиком, опуская ступни на мягкую бурую пыль немощеных дорог.
Теплый пыльный ветер загнал нас за угол. Там стоял маленький мексиканский цирк-шапито: старый шатер, побитый молью, с кое-как залатанными прорехами, удерживаемый изнутри только древним каркасом — не иначе как из костей динозавра.
Зато музыка неслась сразу из двух мест.
По одну сторону от входа хрипел проигрыватель «Виктрола», который через два похоронных рупора, запрятанных высоко в кронах деревьев, воспроизводил звуки «Кукарачи».
По другую сторону играл настоящий оркестрик. В его составе были: барабанщик, который наносил удары по огромному барабану с такой страстью, словно убивал собственную жену, тубист, обвитый с головы до ног медными потрохами своего инструмента, трубач, напустивший в трубу целую пинту слюны, а также ударник, чья пулеметная дробь заглушала как живых, так и механических исполнителей. Этот ансамбль наяривал «La Raspa».
Под эту какофонию мы с приятелем перешли на другую сторону вечерней улицы, продуваемой теплым ветром; на обшлагах наших брюк обосновалась целая туча кузнечиков.
Продавец билетов не отрывался от мегафона — он лез вон из кожи, зазывая публику. В нашем цирке вас ждет лавина диковинных зрелищ: клоуны, верблюды, воздушные гимнасты. Не проходите мимо!
Мы не прошли мимо. Купили у него билеты, затесавшись в толпу молодых и старых, щеголей и оборванцев.
У входа стояла миниатюрная женщина с крупными, как рояльные клавиши, зубами, которая жарила лепешки-тако[3] и надрывала билеты, кутаясь в линялую шаль с блестками. Я понял, что это всего лишь крылышки мотылька, которые вот-вот сменятся яркими крыльями бабочки… верно? Она увидела по лицу, что я об этом догадался. Залилась смехом. Надорвала лепешку и протянула мне. Снова засмеялась.
С напускным безразличием я сжевал свой билет.
Внутри шатра были дощатые скамьи мест на триста, предусмотрительно сколоченные таким образом, чтобы калечить хребты заезжим равнинным крысам вроде нас. У самой арены стояло десятка два шатких столиков и стульев, где сидели местные аристократы в темных костюмах и черных галстуках. Их сопровождали достойные супруги и притихшие отпрыски — все благонравные, все молчаливые, как подобает родне виноторговца, хозяина табачной лавки или владельца лучшей автомастерской в Мексикали.
Представление должно было начаться либо в восемь вечера, либо позже, когда все места будут заняты; по редкостно удачному стечению обстоятельств цирк заполнился к восьми тридцати. Вспыхнули огни. Зазвучал пронзительный свисток. Музыканты побросали инструменты на землю у входа в шатер и разбежались.
Впрочем, они тут же появились вновь: одни, переодевшись в униформу, принялись натягивать канаты, другие вышли в клоунских костюмах и начали дурачиться на арене.
Вошел, пошатываясь, и продавец билетов: он тащил «Виктролу», которую с грохотом опустил на помост для оркестра. Стоило ему воткнуть штепсель в розетку, как из провода вырвался целый сноп искр, сопровождаемый хлопками мелких взрывов. Он поглядел по сторонам, раскрутил пластинку и нацелил на нее иглу звукоснимателя. Одно из двух: либо живая музыка, либо живые акробаты. Мы предпочитали второе.
Грандиозное представление началось — правда, не слишком удачно.
Шпагоглотатель подавился шпагой, побрызгал керосином на вялые язычки пламени и удалился под хлопки ладошек пяти маленьких девочек.
Тройка клоунов обменялась пинками и убежала за кулисы при гробовом молчании публики.
Наконец, благодарение Богу, на арену выпорхнула миниатюрная девушка-циркачка.
Как было не узнать эти блестки-звездочки! У меня даже распрямились плечи. Я узнал и крупные зубы, и живые карие глаза.
Это была продавщица лепешек-тако!
Но сейчас она…
Жонглировала пивным бочонком!
Вот она опустилась на спину. Что-то выкрикнула. Шпагоглотатель метнул ей красно-бело-зеленый бочонок. Его ловко поймали обтянутые белым трико ножки, обутые в белые балетные туфельки. Как только бочонок закрутился, шатер содрогнулся от записи марша Джона Филипа Сузы,[4] словно от удара медным тазом.
Малютка-циркачка подкинула крутящийся бочонок на двадцать футов вверх. К тому моменту, когда он должен был упасть и неминуемо ее расплющить, она успела отбежать в сторону.
— Эй! Andale! Vamanos![5] A-a!
За пологом шатра, в пыльной полутьме я смог рассмотреть приготовления грандиозного парада-алле, который препоясывал свои подагрические чресла. У арбузных лотков сгрудилась горстка людей, облепивших какую-то тушу, в которой угадывался недовольный верблюд. Мне даже послышалось, будто он разразился проклятиями. Я словно воочию видел, как раскрываются его губы, выпуская непристойную отрыжку. Показалось мне или нет, что под брюхо животного заводили подпругу? Не было ли у него грыжи?
Один из потных клоунов впрыгнул на оркестровый помост, нахлобучил красную феску и подул в тромбон, извлекая страдальческие завывания. В ответ, словно стадо слонов, затрубила следующая пластинка.
В шатер потянулась процессия, облепленная миллионами кузнечиков, которые наконец-то нашли чем заняться.
Возглавлял парад ослик, которого вел парнишка лет четырнадцати, в синем кафтане и тюрбане, словно сошедший со страниц «Тысячи и одной ночи». Следом с громким лаем вбежало полдюжины бездомных собак. Подозреваю, что собакам (так же как и кузнечикам) надоедало торчать на ближайшем углу, и они ежевечерне наведывались в цирк, чтобы предложить свои бесплатные услуги. Так или иначе, сейчас они носились по манежу и время от времени поглядывали в сторону публики, словно желая удостовериться, что их видят. Мы их прекрасно видели. Это прибавляло им куражу. Они приплясывали, тявкали и вертелись волчком, пока у них не свесились языки, словно ярко-красные галстуки.
Все это, во всяком случае поначалу, расшевелило зрителей. Мы как один разразились криками и аплодисментами. Собаки совсем обезумели. Они бросились к выходу, на бегу кусая собственные хвосты.
Затем появилась старая кляча, на которой восседал раскормленный шимпанзе: он ковырял в носу и гордо демонстрировал то, что удалось вытащить. Дети снова захлопали в ладоши.
И наконец пришел кульминационный миг великого султанского парада-алле.
Верблюд.
Это был великосветский верблюд.
При том, что он был залатан по швам, заштопан огрызками желтой нити, законопачен паклей; при том, что у него были дряблые горбы, ободранные бока и кровоточащие десны, он тем не менее нашел в себе силы окинуть зрителей таким взглядом, который словно говорил: допустим, от меня дурно пахнет, но и от вас — не лучше. Такова маска безграничного презрения, которая иногда встречается у богатых старух и умирающих бактрианов.
У меня екнуло сердце.
Верхом на этом чудище сидела маленькая циркачка в костюме с блестками, которая только что проверяла билеты, торговала лепешками, жонглировала пивным бочонком, а теперь стала…
Царицей Савской.
Озаряя все вокруг улыбкой, как лучом маяка, она махала нам рукой и продвигалась по арене, подрагивая между волнообразными горбами верблюда.
У меня вырвался крик.
Потому что верблюд, преодолев всего лишь полкруга, был захвачен приступом артрита и рухнул наземь.
Упал как подкошенный.
Скорчив жалкую гримасу, словно извиняясь перед публикой, верблюд свалился, как мешок с навозом.