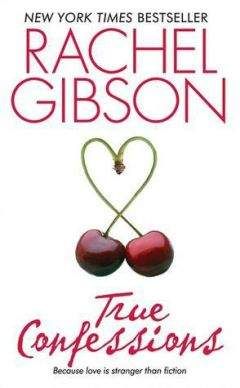Парадоксы Патрика Уайта, или Оттенки трагикомедии
Сейчас Патрику Уайту посвящено множество критических статей и исследований. Они вышли и продолжают появляться у него на родине и далеко за ее пределами. Его известность перешагнула границы стран английского языка, стала всемирной — и распространилась наконец на Австралию, которая с заметным опозданием, но все-таки официально признала в своем «блудном сыне»[1] явление национальной культуры. А еще в конце 1960-х годов лишь немногие соотечественники Уайта отдавали себе отчет в истинных масштабах и значении его творчества и писали об этом, как, например, крупнейший австралийский историк XX века Мэннинг Кларк: «После затянувшейся паузы духовную жизнь Австралии обогатили несколько великих свершений. Патрик Уайт создал свои романы; Алек Хоуп опубликовал «Оду на смерть Пия XII»; в возвышенный гимн бытию слилась поэзия Дугласа Стюарта и Джудит Райт; Сидней Нолан написал во славу цветущего древа жизни холст "Излучина реки"»[2]. В основном же отечественная литературная критика либо не принимала его в расчет, либо просто не принимала: настолько облик Австралии, встающий со страниц его книг, не отвечал весьма патриотическим и широко распространенным представлениям о процветающей, здоровой, красивой и беззаботной стране. И это в то время, когда литературные обозреватели самых влиятельных периодических изданий Великобритании, США и Канады восторженно рецензировали его романы, ставшие ныне хрестоматийными, — «Тетушкина история» (1948), «Древо человеческое» (1955), «Фосс» (1957), «Едущие в колеснице» (1961), «Прочная мандала» (1966), «Вивисектор» (1970)[3].
Решение Нобелевского комитета о присуждении Патрику Уайту премии по литературе за 1973 год застало врасплох только австралийскую критику. Реакция была закономерной, если уместно называть закономерностью парадокс, но весь облик писателя: биография, характер творчества, философская, сюжетная и изобразительная структура его книг, — все соткано из парадоксов, исполнено внутренней диалектики сопряжения и событования вещей и явлений если и не противоположных, то уж, казалось бы, никак не совместимых[4].
В определении Нобелевского комитета говорилось, что премия ему присуждается «…за эпичность и психологизм повествовательного искусства, открывшего миру новый континент в литературе»[5]. Определение справедливо в прямом и переносном смысле слова: «Континент» — это совокупность всего, что Уайт написал об Австралии, и сама Австралия, занявшая с его книгами свое законное место на литературной карте мира. Правда, место она «застолбила» еще до Уайта благодаря классикам австралийской литературы Г. Лоусону, X. X. Ричардсон, К. С. Причард, В. Палмеру, Н. Линдсею и некоторым другим. Но Уайт первый столь решительно выступил против континентальной замкнутости и известного провинциализма, претворив австралийскую трагедию, австралийский фарс, австралийский образ жизни и смерти в общечеловеческую трагедию, фарс и т. д. Интенсивность, с какой он искал и находил приметы оскудения австралийского духа и национального характера, убывания души — оскудения и убывания, ставших оборотной стороной материального процветания и политического и культурного изоляционизма, и та беспощадность, бескомпромиссность жестоких художественных обобщений, которая требовалась ему, чтобы довести сделанные открытия до сведения своих благополучных соотечественников и всего мира, конечно же, не вписывались в социальный миф Australia Felix[6], и Австралия социальных мифов не захотела узнавать себя в Австралии-мифе, сотворенном художником, тем более что ни о каком «портретном сходстве» не могло быть и речи.
Итак, нобелевский лауреат — австралийский писатель, открывший миру Австралию, но в Австралии неузнанный и непризнанный. Другой парадокс — писатель отклонил эту честь и отказался получить премию, потому что ее не было у некоторых других авторов. О своем отношении он заявил еще до решения Нобелевского комитета: откажется «…хотя бы потому, что писатели, которых он считает неизмеримо крупнее себя, этой премии не сподобились — Джойс, Лев Толстой, Д. Г. Лоуренс, если назвать первые три имени, что сразу приходят на ум»[7]. Соединение этих трех имен тоже достаточно парадоксально, особенно Толстого и Джойса (притом, что второй почитал первого): великий реалист, склонный к почвенничеству, сумевший передать дыхание земли и вселенной, могучий пульс неиссякаемого потока жизни, личность цельная и монолитная — и великий модернист, носивший Ирландию в сердце, однако покинувший ее, чтобы никогда туда не вернуться и умереть на чужбине, воссоздавший безумный и трагический фарс круговерти будничного существования, обретавшийся в сфере мифа и слова, личность рефлектирующая, одинокая, обреченная попадать в тупик на избираемых путях. А еще парадоксальней то, что Уайт, полагавший для себя весьма плодотворным опыт мастеров русской классической литературы — Толстого и Достоевского не в последнюю очередь, — прямо указывал на Джойса и Лоуренса как на непосредственных литературных учителей, притом далеко и не только в области языка, стиля и композиции.
Биография писателя тоже складывалась парадоксально. Отпрыск по прямой линии почтенного семейства австралийских землевладельцев (его прадед купил ранчо в 1826 году), он умудрился появиться на свет (28.05.1912) во время кратковременного пребывания родителей в Лондоне. Среднее образование завершил в английской привилегированной школе-интернате для мальчиков, в Англии же закончил престижный Кембриджский университет. Объездил Европу и США. Годы войны провел в разведывательной службе Королевских военно-воздушных сил, служил в Африке, на Ближнем Востоке, в Греции, где изучал местные культурные и этнические традиции. По всем объективным данным Уайт подходил, таким образом, на амплуа типичного представителя среднеевропейско-средиземноморской космополитической литературной богемы, однако в 1948 году он не только окончательно возвратился в Австралию, но первые годы после этого зарабатывал на жизнь трудом на купленной им ферме «Догвудс» под Сиднеем, пока исподволь вызревало и неспешно ложилось на бумагу прославившее его «Древо человеческое». Уайт не просто утверждает, он и личным примером подкрепляет верность «корням» — они становятся важнейшей категорией его эстетики, определяют самое судьбу художника-творца: «Австралийские писатели-экспатрианты, как, впрочем, любые художники слова, в конце концов усыхают и гибнут, будучи оторваны от своей естественной среды обитания… [поэтому мой] совет художникам — держаться почвы, что их взрастила, будь то булыжник мельбурнских мостовых или забитые отбросами канавы Сиднея»[8].
При этом слепок с родной земли, точные картины Австралии с ее характерным пейзажем, природными и климатическими контрастами и разгулом стихий можно найти у Уайта, пожалуй, только в «Древе человеческом», самом полнокровном и масштабном его романе, если и не самом впечатляющем и проникновенном из его творений. В других же романах, повестях и рассказах [9]пейзаж (и не только австралийский) воспринимается не как объективная данность, а как некое пространственное продление душевного состояния персонажей. То, что ландшафт в книгах Уайта несколько смещен относительно реальности и поэтому обретает гротескные пропорции, подмечали как зарубежные, так и советские исследователи[10]. Образно говоря, уайтовские ландшафты — не «место действия», а само действие.
Философии и литературе известно различие между временем объективным (существует вне и помимо человека), биологическим, которое проживает тело, и субъективным, каким его ощущает и осознает каждый конкретный человек. Несовпадения и расхождения между тремя типами времени давали Прусту, Т. Манну, Джойсу, Борхесу, Кортасару и многим другим авторам XX века пищу для размышлений и тему для художественного исследования. Как свидетельствуют рассказы «Стакан чая» или «Клэй», Уайт тоже разрабатывает эту тему, однако исключительно в связи с другими, для него более важными. Его персонажи, помимо «субъективного времени», ощущают то, что можно было бы по аналогии назвать «субъективным пространством». Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к повести «Женская рука»: прозрачные, насквозь просматривающиеся дома-аквариумы на океанском побережье, выдающие разобщенность и самодовольство владельцев — состоятельных собственников или самодельная деревянная халупа бывшего корабельного механика Даусона («за окнами даусоновского дома всегда был виден ветер») многое говорят о своих обитателях, но не меньше и о вступающих с этими домами в трудно определимую эмоциональную связь главных персонажах — среднебуржуазной чете сравнительно нестарых пенсионеров Фезэкерли. Однако и тут «место», как и «время», важно у автора не само по себе и не как самостоятельная художественная задача, но лишь как способ решения этой художественной задачи.