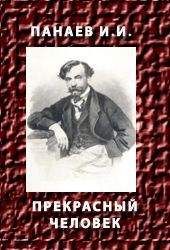Иван Иванович Панаев
Прекрасный человек
…О нем твердили целый век:
N.N. прекрасный человек!"
Пушкин
Глава I, служащая вступлением; в ней рассказывается о том, в какую счастливую минуту родился прекрасный человек
- Тс! тс! шш! шш! Экой народец какой! Васька, да что же это такое? разве ты не можешь пройти, не задев за что-нибудь? Мало бьют вас, бестии… Нечаянно? нечаянно! Да еще бы нарочно? Шшш! Шш! Шш!.. О, господи боже мой! чувства никакого нет в этом народе, решительно никакого.
Так, качая головою, шептал человек низенького роста, толстенький, с крошечными глазками, с огромной лысиной, прохаживаясь на цыпочках взад и вперед по комнате.
На этом человеке был надет пестрый бухарский халат, и маленькая шея его была опутана белым платком, который почти совершенно закрывается широкою орденскою лентой красного цвета с желтой каемкой…
Хотя этому человеку было только сорок лет, но на его круглом и полном лице резко обозначились морщины, - может быть, следствие усиленных трудов, и несмотря на полноту лицо его было болезненно-бледно, - может быть, от сидячей жизни. Глазки его, совершенно заплывшие, будто нехотя, будто с трудом глядели на божий свет; к тому же в эту минуту он моргал веками, лишенными ресниц, обыкновенного их украшения. Но да не подумает читатель, чтоб этот почтенный человек моргал по привычке, - совсем нет, он не имел никаких дурных привычек, решительно ничего особенного: какое-то торжественное спокойствие, ненарушимая безмятежность всегда царствовали на его полной физиономии - и он моргал веками только в самые критические минуты своей жизни, когда душа его бывала сильно взволнована и когда он сильно был недоволен или поражен чем-нибудь. В первом случае он беспрерывно моргал обоими глазами, во втором только изредка подергивал правым глазом.
- Шш! шш! - продолжал он, обращаясь к удалявшемуся в переднюю лакею, который стучал своими каблуками. - Ради же самого бога, Васька, шш!.. Как же ты не возьмешь, братец, в расчет, что ходить тебе взад и вперед совершенно незачем?
Сидел бы в передней да тачал бы сапоги, а то нет…
Лакей остановился, обернулся лицом к барину и разинул рот, но тот в страшном испуге замотал своими коротенькими ручками, заморгал глазками и снова, но выразительнее прежнего прошептал: шш!
Когда лакей вышел из комнаты, барин приложил руку к правому уху и, казалось, стал к чему-то внимательно прислушиваться… Но кругом была тишина ненарушимая; нагоревшая сальная свеча издавала слабый свет, едва освещая комнату средней величины о трех окнах, уставленную красными решетчатыми стульями, украшенную двумя ломберными столами и двумя зеркалами.
Через минуту послышалось слабое стенание, как будто из других соседних комнат: при этих звуках человек в халате заморгал, почти не переводя дыхания, опустился на стул, как бы ожидая еще что-то, но опять все по-прежнему сделалось тихо, и, казалось, долго удерживаемый вздох вырвался из груди низенького и толстенького человечка и облегчил его. Губы его зашевелились; он забормотал что-то невнятно, но через минуту, приподнявшись со стула и заложив за спину свои коротенькие руки, которые едва сходились назади, он снова стал прохаживаться по комнате на цыпочках и говорить довольно ясно, впрочем, шепотом:
- Десять лет! десять!.. Истинно неисповедимы судьбы твои, Господи! Все это как будто сон… И знал, и видел, кажется, собственными глазами, а как-то не верилось. Надо взять в расчет, что в наше время десять лет очень много времени, очень! Однако такое странное происшествие должен считать я не иначе, как милостию божиею; только если бы все благополучно кончилось! а то ведь десять лет, десять!.. - И, повторяя беспрестанно это роковое число, он моргал обоими глазами.
Голова низенького человека опустилась на грудь, так что он подбородком уперся в самую середину ордена, висевшего у него на шее.
В это самое мгновение кто-то чуть слышно полурастворил дверь комнаты, противоположной передней, и чья-то голова выглянула из двери; но свеча так нагорела, что невозможно было рассмотреть, кому принадлежала эта голова.
Низенький человек приподнялся и вздрогнул.
- Кто тут? - произнес он вполголоса и вдруг, как будто испугавшись, что проговорил слишком громко, повторил едва слышно: - кто тут?
- Это я, батюшка Матвей Егорыч, - отвечала голова, высунувшаяся из двери, также шепотом.
- Я! я! кто же я? - бормотал себе под нос Матвей Егорыч. - Сколько раз говорил я, что на вопрос "кто?" должно всегда сказывать имя и отчество или просто имя, а то я - ну что такое я?
Рассуждая таким образом, Матвей Егорыч подошел к столу, на котором стояла свеча, и хотел сощипнуть с нее, но рука изменила ему, обнаруживая его внутреннее волнение; однако он продолжал мыслить вслух:
- Вишь, как нагорела! а я совсем этого и не заметил. И оплывают как! Обманул меня этот плут Прохоров, а еще знакомый человек, еще говорит: отличные свечи,
Матвей Егорыч…
- Матвей Егорыч!
- Кто там?
После двух или трех неудачных попыток он снял со свечи, взял ее со стола и подошел к двери, из которой выглядывала голова. Но подсвечник дрожал в руке его.
- Это ты, Василиса? Ради бога, скажи, что такое? не случилось ли чего?
В самом деле, морщинистая голова, повязанная платком и выглядывавшая из двери, принадлежала Василисе, домоправительнице Матвея Егорыча.
- Ничего, батюшка, не случилось, благодарение богу.
- Ничего? То-то же… Да я хотел тебе сказать, Василиса, - продолжал Матвей
Егорыч, - если тебя спрашивают: кто тут? - то следует взять в расчет, что желают узнать, кто именно вошел: Петр, Иван, Егор, Алена, Домна или… или… но я не может служить ответом, я неопределенно; а всегда и на все должно отвечать определенно.
- И! до того ли теперь, Матвей Егорыч!
- Что? а разве что-нибудь было?.. - И правый глаз Матвея Егорыча начал словно подергиваться, и он не мог докончить начатой речи.
- Нет, все слава богу, батюшка, ничего не было; все идет как должно; известное дело, что не легко…
- То-то же.
Матвей Егорыч покачал головой.
- Поди сюда, Василиса.
Он поставил свечу на стол и снова заложил руки за спину, остановившись посредине комнаты против домоправительницы.
- Я очень боюсь, Василиса, очень, потому что…
- Батюшка, Матвей Егорыч, чего же бояться? это дело обыкновенное…
- Оно конечно; но надо взять в расчет десять лет, Василиса, - вот что главное…
- Ведь у бога все возможно, Матвей Егорыч.
- Так, так: но сама ты знаешь, иногда бывают случаи…
- Точно, сударь, не ровен бывает час. Матвей Егорыч заморгал обоими глазами.
- Но ты говоришь, что ничего, слава богу?
- В добрый час сказать, батюшка.
Матвей Егорыч опустил руку в широкий карман своего жилета и вынул оттуда табакерку, любимую свою табакерку, с изображением девицы, стоящей перед трюмо, в шнуровке. Он взял щепотку табаку и с расстановкой три раза медленно провел два пальца с табаком под носом: так обыкновенно нюхивал Матвей Егорыч; потом протянул руку с табакеркой к домоправительнице.
- Возьми-ка щепотку, другую, Василиса Ивановна. Василиса взялась было за табак, но в эту самую минуту опять послышался стон, и гораздо сильнее, чем в первый раз. Табакерка выпала из руки Матвея Егорыча, веки его захлопали.
- Беги туда, Василиса, беги скорей, брось все это! Что-то будет! Боже мой! брось это, Василиса, брось…
- Ничего, батюшка, не беспокойся, все, даст бог, будет хорошо.
И между тем она собирала с пола на ладонь просыпанный табак.
- Брось все, ну черт с ним, и с табаком, беги скорей…
- А вы, батюшка, не взойдете туда? ведь я за тем и пришла, чтобы спросить вас,
Матвей Егорыч, не зайдете ли к нам.
- Нет, нет, ей-богу не могу, Василиса. Беги же скорей. Уж я лучше здесь побуду.
Ведь, может быть, ничего, - продолжал он дребезжащим голосом, смотря ей прямо в лицо, - так все слава богу и кончится? Может быть, не правда ли, а? - И на глазах его показались слезы.
- Ничего, батюшка, ничего… - И Василиса отдала табакерку Матвею Егорычу и вышла, или, лучше сказать, выбежала из комнаты с подобранным табаком.
- Ничего, ничего! - шептал Матвей Егорыч, оставшись один. - Ничего…
Конечно, оно дело самое простое; это случается всякий день, а в таком большом городе, как Петербург, и в день-то, я думаю, по нескольку раз; однако надо взять в расчет десять лет, десять!..
Он провел рукою по лицу, отирая слезы, и еще раз повторил: "Десять!"
Три раза он прошелся по комнате, три раза принимался осматривать у свечи, не повредился ли шалнер в его любимой табакерке, не попортилась ли дама, стоявшая перед трюмо; но все это он делал почти машинально: мысли его заняты были чем-то важнейшим, что можно было сейчас заметить по учащенному миганью век.
Вдруг в передней раздался звон колокольчика; по звону можно было догадаться, что какая-то могучая рука привела его в движение. Матвей Егорыч вздрогнул.