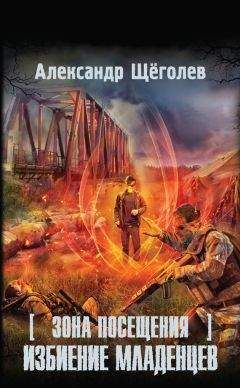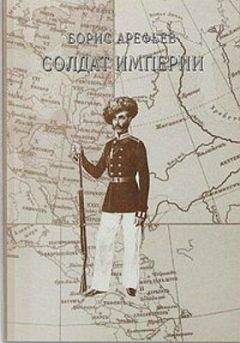Александр Иванович Куприн
По заказу
Илья Платонович Арефьев, фельетонист распространенной газеты, ходит по своему кабинету,– от угла кожаного дивана до этажерки с бюстом сурового Шопенгауэра, задевает руками и ногами за спинки стульев и сердится. С ним случилось то, что называется у игроков метким словечком: «заколодило». Уже больше часа ломает он голову и не может выжать из нее ни одной живой строчки, а на приготовленной для писания бумаге красуются: солдат, стоящий около полосатой будки, лошадиная морда в профиль с удивленным человеческим глазом и несколько кошек, нарисованных с одного почерка.
Арефьев – старый газетный волк. Не только юные поэты и почтенные сочинительницы дамских повестей, но и «наши молодые, подающие надежды беллетристы» не без волнения пробегают четверговые номера «Русской почты», в которых Илья Платонович, под псевдонимом «графа Альмавивы», производит еженедельное избиение литературных младенцев. Но эти кровавые расправы не составляют его специальности. Он одинаково легко пишет о золотой валюте и о символистах, о торговле с Китаем и о земских начальниках, о новой драме, о марксистах, о бирже, о тюрьмах, об артезианских колодцах – словом, обо всем, что он слышит в воздухе своим тонким, профессиональным чутьем. Он раньше всех схватывает на лету, ловит за хвост ту тему, которая еще не сделалась сегодня, но сделается завтра всеобщей злобой дня, и тотчас же перед его умом, изощренным в сарказме и гиперболе, вырастают с привычной резкостью смешные, темные и уродливые стороны явления.
До сих пор Илья Платонович не знал никаких технических трудностей своего ремесла. Ему достаточно было только заинтересоваться и овладеть идеей. Он садился к столу уверенный, что слова придут сами собой, и они на самом деле приходили к нему, живые, интересные, хлесткие и остроумные, выливаясь без единой помарки четкими, красивыми строчками на бумагу. Он даже никогда не перечитывал своих фельетонов, прежде чем отослать их с типографским мальчиком в редакцию.
И вот сегодня случилось что-то непонятное. Один видный литературный кружок предпринял в пользу детской санатории издание литературного альманаха. Пригласили участвовать и Арефьева, причем с надлежащей, очень лестной почтительностью дали ему понять, что от него ждут «чего-нибудь такого, знаете ли, потеплее, что хорошенько расшевелило бы читателя»… Арефьев охотно дал согласие, потом, по обыкновению, забыл о нем, и, наконец, вчера, когда ему деликатно напомнили, что из-за его рассказа задержали печатание книги на два дня, он сделал и последний промах, обещав самым положительным образом прислать рукопись никак не позже сегодняшнего вечера.
Вернувшись в семь часов вечера домой, он, как и всегда, аккуратно зажег лампу с подвижным металлическим рефлектором, поставил ее по левую руку от себя, положил перед собою наискось десть линованной бумаги, даже обмакнул перо в чернильницу – и вдруг с удивлением почувствовал, что ему не о чем писать. Дело другого рода, если бы предстояло написать ядовитый зажигательный фельетон. Тем более что и темы подвертываются самые ходкие. Вот, например, лежит перед Арефьевым последняя книжка «Литературного приложения», где «наш молодой талантливый поэт» с апломбом выдает за свое произведение стихи Тютчева, известные публике еще по хрестоматиям. Не менее заманчив отчет о благотворительном спектакле, устроенном в пользу сирот севастопольских инвалидов, причем чистый сбор выразился в сумме три рубля семь копеек, а на извозчиков для господ любителей и на угощение их «чаем» потрачено более трехсот рублей. Но, к сожалению, в обеих темах нет ничего такого, что могло бы расшевелить читателя и раскрыть его карман в пользу слабогрудых ребятишек.
А между тем Илья Платонович чувствует, что в его душе зашевелился червячок профессионального самолюбия. Как? Неужели он, Арефьев, не в состоянии написать простого пасхального рассказа, в то время когда самый захудалый репортер, заведующий обыкновенно бешеными собаками и буйными извозчиками, уже, наверно, успел стащить в редакцию, пользуясь привилегиями, существующими для праздничных произведений, какого-нибудь внезапно раскаявшегося ростовщика или старуху, «мирно засыпающую вечным сном под радостный звон колоколов». Неужели, привыкнув в продолжение стольких лет вызывать в читателе насмешливые и злобные настроения, он потерял навсегда способность затрагивать в его сердце чувства милосердия, нежности и тихой радости? Неужели его талант специализировался, утратил самое драгоценное качество – разносторонность?
Арефьев продолжает свою нервную беготню от угла дивана до бюста великого скептика, а насмешливый ум, как будто нарочно, дразнит его, подсказывая ему шаблонные фразы из «дамских повестей», над которыми он так «охотно и беспощадно глумился в четверговых фельетонах». «Он подошел к окну, прижался пылающим лицом к холодному стеклу, по которому, точно слезы, струились дождевые капли».– «Князь метался взад и вперед по своему роскошно убранному кабинету, что всегда служило у него признаком дурного настроения».– «Был тихий майский вечер. Солнце садилось, озаряя своим пурпуровым светом окрестность»…
– Хорошо было бы написать рассказ сплошь из таких милых фразочек, – соблазняет Илью Платоновича старая привычка смотреть на все с юмористической стороны.– Да. Так бы и начать: «На башне св. Стефана глухо пробило полночь. Из-за угла невзрачной лачуги показался незнакомец высокого роста. Лицо его было закутано широким плащом. Шляпа с пером и длинная шпага на боку доказывали его благородное происхождение».
Но Арефьев гонит от себя эту предательскую мысль и опять принимается метаться взад и вперед по своему роскошно убранному кабинету.
– Подожди. Разберемся в этой задаче постепенно,– говорит он сам с собою.– Во-первых, для того чтобы взволновать и умилить читателя, надо самому над чем-нибудь взволноваться и умилиться. Нужно пролить ту самую слезу, которую в дамских повестях проливают, сваливая ее на слитком крепкий табак, старые полковники по окончании чувствительного рассказа. «В комнате воцарилась гробовая тишина. Старый полковник окончил рассказ и почему-то слишком долго выколачивал о решетку камина свою трубку, отвернувшись от слушателей. Наконец он выпрямился и, отирая глаза, сказал дрожащим голосом: „Черт побери! Какой, однако, у вас крепкий табак, ротмистр!“ – „А что же сталось с несчастной Заирой?“ – решилась спросить, после долгого молчания, дама с палевой розой в волосах. „Она умерла!“ – глухо ответил старый полковник».
– Черт! Какая чепуха лезет в голову! – бранится вслух Арефьев и сердито толкает ногой подвернувшийся стул.– Ведь этак выходит, что я похож на того анекдотического попугая, который не умел ничего говорить, кроме скверных слов. Нет, будем последовательны и разберем спокойно, на какие сюжеты самый большой праздничный спрос. Ну-с, раньше всего, конечно, легкомысленная жена, возвращающаяся к покинутому мужу с первым ударом колокола. «Револьвер выпал из его рук и с грохотом покатился по полу. Он широко размахнул свои объятия, она упала к нему на грудь, и их уста слились в долгом, долгом поцелуе…» Одним словом, долой легкомысленную даму!..
Затем следует солдат, стоящий в пасхальную ночь на часах. «Какая-то черная тень промелькнула на белом фоне тюремной стены, ярко освещенной луной. Часовой быстро, привычной рукой взвел курок и прицелился. Но в эту минуту в воздухе торжественно-гулко разлился первый звук благовеста, и ружье медленно опустилось вниз… Глубокий вздох облегчения вырвался из взволнованной груди» и так далее и так далее. Хорошая история, старая, верная, испытанная… Мимо!..
Что же еще?.. Недурно тоже заморозить на улице нищую девочку, глядящую в ярко освещенные окна богатого дома. «Снег медленно падал мягкими пушистыми хлопьями, засыпая неподвижную фигуру ребенка, на лице которого застыла блаженная улыбка». Впрочем, это из рождественских тем – и потому в сторону.
Илья Платонович подходит к окну и равнодушно смотрит на улицу. Вечер тихий, ясный и теплый; все в нем кажется смягченным, размеренным – и задумчивое небо, и чистый полукруг ущербленного месяца, и тонкие ветки акаций, и контуры громадных темных зданий. В чутком и ленивом воздухе голос прохожих и женский смех отдаются с приятной звучностью, даже колеса экипажей стучат как-то особенно, по-весеннему мягко.
Напротив, через улицу, перед окнами большой кондитерской столпилась кучка оборванных мальчишек. Они никак не могут отвести глаз от выставленных за большими стеклами исполинских баб, размалеванных куличей, сахарных барашков и висящих на ниточках пестрых яиц. Эти мальчишки почему-то раздражают Илью Платоновича.
"Ишь как прилипли к стеклу носами. Ведь вон того, что с колодками под мышкой, наверно, хозяин послал к заказчику-офицеру. А он перед каждым окном зевает. Ну и опоздает и получит трепку ради праздника, а потом в газете заметка о зверском обращении. Так тебе и надо, канальский мальчишка!.. Гм… А впрочем, и еще хорошенькая темочка. «Бледный, изнуренный мальчик любуется на куличи, выставленные в роскошной кондитерской. Неожиданно появляется на сцену таинственный господин с золотыми очками и непременно в богатой лисьей шубе (вообще удивительную энергию проявляет на святках этот господин!). Завязывается разговор. Оказывается, что „тятька“ у мальчика умер, столетний „дедка“, согнутый в дугу, не слезает с печи, „мамка“ лежит больная, сестренка… ну, и так далее. „Веди меня туда!“ – решительно говорит господин в золотых часах, и через полчаса у мамки появляется хорошее вино и лекарство, прописанное лучшим доктором, дедку накормили манной кашей и купили ему теплый набрюшник, изнуренный мальчик, „радостно блестя глазенками“, прыгает вокруг стола, на котором красуется недорогая пасха, скромный кулич и десяток красных яиц, а господин в лисьей шубе незаметно скрылся, не сказав даже своего имени, но оставив на столе кошелек, наполненный золотом».