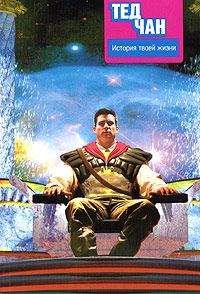Мы со своими сумками прибыли на крикетное поле психиатрической лечебницы, и главный врач заведения, с которым меня познакомили в доме, где я остановился, вышел поздороваться. Я сказал, что сегодня смогу только вести счет за команду Лэмптона (на прошлой неделе сломал себе палец, стоя в воротцах на кочке). Он сказал:
— О, тогда у вас будет очень интересный собеседник.
— Тоже счетчик? — спросил я.
— Кроссли — самый интеллигентный человек во всей лечебнице, — ответил доктор. — Страстный книгочей, превосходный шахматист и прочая, и прочая. Объездил чуть не весь свет. У нас по поводу маний. Самая серьезная его мания — что он убийца, убил якобы двух мужчин и одну женщину в Сиднее, в Австралии. Вторая — повеселей: будто душа его разбита вдребезги — понимай как знаешь. Он редактирует наш ежемесячник, ставит рождественские спектакли, а на днях выступил с дивными фокусами. Он вам понравится.
Доктор нас познакомил. У Кроссли, крупного мужчины лет сорока-пятидесяти, было странное, не без приятности лицо. Но мне было чуточку не по себе с ним бок о бок в судейской будке. Не то чтобы я боялся его черно-волосатых рук, но неприятно было чувствовать рядом сверхобычную силу и даже, может быть, оккультные способности.
В будке было жарко, несмотря на распахнутое окно.
— Предгрозовая погода, — сказал Кроссли с интонациями, в просторечье приписываемыми «учености», хоть я и не разобрал, в каком именно колледже он ее почерпнул, — в предгрозовую погоду наш брат пациент ведет себя особенно странно.
Я спросил, играет ли кто-нибудь из пациентов.
— Играют двое. Тот высокий — Б. К. Браун — играл за Хаитов три года назад, а второй — классный клубный игрок. Бывает, к нам присоединяется и Пэт Слингби, крепкий боулер из Австралии, знаете, но сегодня мы его отставили. В такую погоду он, того гляди, запустит мячом кому-нибудь в голову. Он не то что сумасшедший в полном смысле слова, но замечательно злобный. Доктора с ним не сладят. Ей-Богу, его всего бы лучше прикончить.
Затем Кроссли перешел на главного врача.
— Добрый малый и вполне образован в своей области, что среди психиатров не часто. Всерьез занимается психопатологией, вполне начитан и в курсе всех достижений науки вплоть до позавчерашнего дня. Ни по-немецки, ни по-французски он не читает, так что я чуть впереди него по части психиатрической моды: ему приходится дожидаться моих переводов. Я ему сочиняю для толкования значащие сны. Я заметил, что ему нравится, когда я в них вставляю змей и яблочные пироги, и уж норовлю потрафить. Он приписывает мое умственное расстройство до брому испытанному антиродительскому комплексу — эх, если б все было так просто.
Потом Кроссли спросил, могу ли я вести счет и одновременно слушать его историю. Я сказал, что могу. Это был медленный крикет.
— История моя совершенно правдивая, — начал он. — Вся до последнего слова. Верней, когда я говорю, что история моя правдива, я имею в виду, что я ее всегда рассказываю по-новому. История-то одна, но иногда я варьирую развязку, иногда видоизменяю персонажей. Благодаря этим вариациям сохраняется свежесть, а тем самым — правдивость. Повторяй я ее всякий раз слово в слово, она бы давно заездилась, выдохлась, стала фальшивой. Но я сохраняю ее живой, и она правдива вся, до последнего слова. Со всеми участниками я лично знаком. Они здешние.
Мы решили, что я буду считать очки, а он будет следить за подачами, а каждый раз, как упадут воротца, мы будем сверять наши записи.
И таким образом он смог рассказывать.
Проснувшись однажды утром, Ричард сказал своей Рейчел:
— Какой странный сон.
— Расскажи, миленький, — сказала она. — Только поскорей, потому что я жажду рассказать тебе свой.
— Я беседовал, — сказал он, — с неким лицом (или лицами, так как облик его все время менялся), весьма не глупым, и я помню совершенно отчетливо весь наш разговор. А ведь это в первый раз я могу вспомнить, что я обсуждал во сне. Обычно сны мои так отличны от пробужденья, что я могу рассказать о них лишь следующее приблизительно: «Я жил и думал, как дерево, или колокол, или как до мажор, или пятифунтовая купюра, будто и не был никогда человеком». И жизнь в этих снах иногда прекрасна, иногда ужасна, но, повторюсь, всегда так отлична от яви, что если бы я сказал: «я беседовал», «я влюбился», или: «я слушал музыку», или: «я злился», — это столь же мало характеризовало бы предмет, как если бы, взявшись толковать философскую проблему, я, подобно Панургу у Рабле, наставлявшему Таумаста, лишь гримасничал бы, шевелил губами и таращил глаза.
— Вот и со мной точно так же, — сказала она. — Когда я сплю, я превращаюсь в камень, со всеми присущими камню склонностями и убеждениями. «Бесчувственный, как камень» — это только так говорится, а в камне, может быть, больше чувств, больше чувства стиля, чувства справедливости и больше чувствительности, чем во многих мужчинах и женщинах. И не меньше чувственности, — задумчиво протянула она, помолчав.
Было воскресное утро, торопиться некуда и можно поваляться, обнявшись, в постели; детей у них не было, так что завтрак мог подождать. Он рассказывал ей, что гулял во сне среди дюн с тем человеком (или людьми) и тот (или те) ему говорил (говорили): «Эти дюны не принадлежат ни к морю впереди нас, ни к полосе трав позади, они ничего общего не имеют со встающими за полосой трав горами. Они — сами по себе. Тот, кто бредет среди дюн, тотчас это поймет по особенной терпкости воздуха, и запрети ты ему есть и пить, спать и говорить, желать и думать — он все равно все так же будет брести среди дюн. Среди дюн нет жизни, нет и смерти. Все что угодно может случиться среди дюн».
Рейчел сказала, что это бред, и спросила:
— Ну и что же вы обсуждали? Только поскорей!
Он сказал, что обсуждали они местопребывание души, но нечего было его понукать, она его сбила. Теперь он помнит только, что сначала тот человек был японцем, по том итальянцем, а потом кенгуру.
И она стала рассказывать свой сон, торопясь и захлебываясь:
— Я брела среди дюн. Там еще бегали кролики. Как это увязать с тем, что он говорил насчет жизни и смерти? Я увидела, что вы с этим человеком идете мне навстречу, и я от вас побежала, я еще заметила у него черный шелковый платок, и он за мной погнался, и у меня отлетела на туфле пряжка, я не стала ее подбирать, так оставила, а он нагнулся и сунул ее в карман.
— Но откуда ты знаешь, что это был тот же самый? — спросил Ричард.
— А вот оттуда, — сказала Рейчел и засмеялась, — что лицо у него было черное, а плащ синий, как на портрете капитана Кука. И происходило это все среди дюн.
Он поцеловал ее в шею и сказал:
— Мало того, что мы вместе живем, вместе едим и спим, мы, оказывается, и сны видим вместе.
И оба захохотали.
Потом он встал и принес ей завтрак.
В полдвенадцатого приблизительно она сказала:
— Пойди, миленький, погуляй, и принеси мне чего-нибудь эдакого, и смотри не опаздывай, в час будем обедать.
Было жаркое утро в середине мая, он пошел лесом, вышел на дорогу вдоль берега и через полчаса дошел по ней до Лэмптона. («Хорошо ли вы знаете Лэмптон?» — спросил Кроссли. «Нет, — сказал я, — я заехал сюда отдохнуть, гощу у друзей».)
Он прошел еще шагов сто по той дороге вдоль берега, но потом свернул и пошел через полосу трав. Он думал о Рейчел, о том, как странно, что они до того близки; потом он отщипнул цветок дрока и нюхал, и вникал в его запах, и думал: «Умри она вдруг — что будет со мной?» Он поднял камешек с низкой гряды и пустил его вскачь через заводь и думал: «Нет, разве я гожусь ей в мужья», и брел к дюнам, и снова сворачивал, может быть, опасаясь встретить того человека из общего сна, и наконец, описав дугу, он вышел к старой церкви у подножья горы, за Лэмптоном.
Обедня отошла, и народ был уже у дольменов за церковью, парами и группками, как водится издавна, ступая по нежному дерну. Помещик во весь голос толковал о Карле Мученике: «Великий человек, исключительно великий человек, но обманут теми, кого больше всех любил», а доктор спорил об органной музыке с пастором. Ребятишки гоняли мяч: «Давай сюда, Элси! Да нет, мне, мне давай, Элси! Элси! Элси!» Потом мячом завладел пастор и объявил, что нынче воскресенье. Пора бы знать. Он удалился, и они ему вслед корчили рожи.
Вдруг откуда ни возьмись появился некто и попросил разрешения присесть рядом с Ричардом. Завязался разговор. Незнакомец присутствовал на обедне и хотел обсудить проповедь. Тема проповеди была — бессмертие души; она заключала серию, начавшуюся сразу по Пасхе. Незнакомец не мог согласиться с посылкой проповедника, что душа всегда пребывает в теле. Почему бы это? Какая душе надобность участвовать во вседневных заботах плоти? Душа — это не мозг, не легкие, не желудок, не сердце, не ум, не воображение. Стало быть, она — сама по себе? И не естественней ли для нее пребывать не в теле, а вне его? Он не располагает никакими доказательствами, но он должен сказать: рождение и смерть так странно таинственны, что первооснова жизни должна располагаться вне тела, столь открыто демонстрирующего жизненный процесс. «Мы не можем даже, — сказал он, — с точностью установить миг рожденья и смерти. Вот в Японии, где я побывал, человек считается годовалым, едва он родился. А недавно в Италии один покойник… Но давайте лучше пройдемся среди дюн, и я с вами поделюсь своими выкладками. На ходу мне как-то привольнее говорится».