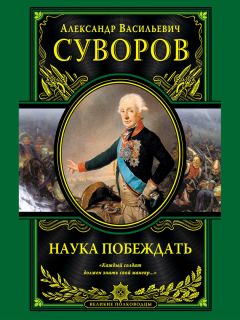Александр Иванович Куприн
Полубог
Шел «Гамлет». Все билеты были распроданы еще утром. Публику более всего привлекало то, что в заглавной роли выступал знаменитый Костромской, который лет десять тому назад начал свою артистическую карьеру в этом же театре в качестве простого статиста-любителя, а потом, объехав всю Россию, в самое короткое время завоевал себе такую оглушительную славу, какой до него не добивался еще ни один провинциальный актер. Правда, за последний год носились и даже проникали в печать темные, маловероятные слухи о том, что бесшабашное пьянство и разврат совершенно расшатали и разрушили гигантский талант Костромского, что он только по разбегу продолжает пользоваться плодами прошлогодних успехов, что антрепренеры частных столичных сцен уже не с таким рабским искательством соглашаются на его стеснительные условия. Кто знает, может быть, в этих слухах и была доля правды. Однако такова была сила имени Костромского, что три дня подряд публика длинным хвостом стояла у кассы театра, несмотря на бенефисные цены; барышники же продавали билеты за тройную, четверную и даже пятерную сумму.
Явление первое не шло, и сцена уже была готова ко второму. Газ еще не зажигали. Декорации королевского дворца висели странными, грубыми, пестрыми картонами.
Публика понемногу наполняла зрительную залу. Из-за занавеса доносился смутный и однообразный ропот.
Костромской сидел перед зеркалом в своей уборной. Он только что пришел и уже оделся в традиционный костюм датского принца – черное трико, ботинки с пряжками и черный бархатный камзол с кружевным широким воротником. Театральный парикмахер стоял около него в подобострастной позе, держа в руках парик-блондин с длинными локонами.
– "…Он тучен и задыхается…" – произнес Костромской, растерев на ладонях кольдкрем и начиная намазывать им лицо.
Парикмахер вдруг засмеялся.
– Ты чему, дурак? – спросил актер, не отрывая глаз от зеркала.
– Да я… так-с… ничему-с…
– Ну вот и видно, что дурак. Они говорят, что я потолстел и обрюзг. А сам Шекспир сказал про Гамлета, что он тучен и задыхается. Все они – мерзавцы, эти писаки газетные. Лают на ветер.
Покончив с кольдкремом, Костромской таким же образом растер по лицу телесную краску. Теперь он внимательнее вглядывался в зеркало.
«Правда, грим – великая штука, а все-таки лицо уже не то, что прежде. Вот и под глазами мешки, а вокруг рта глубокие складки… щеки опухли… нос утерял благородные формы. Ну, да мы еще повоюем… Кин пил, Мочалов пил… наплевать! Пусть говорят и про Костромского, что он от пьянства обрюзг. А вот Костромской покажет сейчас этим молодым… подсоскам этим… покажет, что может сделать настоящий талант».
– Ты, эфиоп, видел меня когда-нибудь? – обратился вдруг Костромской к парикмахеру. Тот весь затрепетал от удовольствия.
– Помилуйте, Александр Евграфыч… Да я… Господи… Первого, можно сказать, русского артиста да чтобы я не видел? В Казани собственными руками для вас парики изготовлял.
– Черт тебя знает… не помню,– произнес Костромской, проводя вдоль носа белилами узкую и длинную черту,– много вас было… Налей-ка!
Парикмахер налил полстакана водки из графина, стоявшего на мраморном подзеркальнике, и подал Костромскому. Артист выпил, сморщился и плюнул на пол.
– Вы бы закусывали, Александр Евграфыч,– нежно посоветовал пьяница-парикмахер,– а то, ежели ее голую… так в голову вдаряет крепко… Костромской почти кончил гримироваться; еще несколько штрихов коричневой краски, и «облака печали легли на его изменившемся и облагородившемся лице».
– Давай плащ! – приказал он парикмахеру, поднимаясь со стула.
Из зрительной залы уже доносились в уборную звуки настраиваемых инструментов оркестра.
Толпа все прибывала. Из-за стен слышно было, как она живым потоком вливалась в театр, растекалась по ложам, партеру и галереям, с топотом и с тем же своеобразным гулом отдаленного моря.
– Давно такого сбора не было,– заметил с подобострастным восторгом парикмахер,– н-ни одного местечка!
Костромской вздохнул.
Еще уверенный в своем громадном таланте, еще полный откровенного самообожания и безграничной артистической гордости, он уже смутно, почти не смея самому себе в этом сознаться, чувствовал, как начинают увядать его лавры. Прежде, бывало, он и в театр не соглашался ехать, если ему антрепренер не привезет в номер условленной полутысячи разовых, а то и прямо раскапризничается в середине спектакля и уедет домой, обругав на чем свет стоит и директора, и режиссера, и всю труппу.
Замечание парикмахера очень живо и больно напомнило ему эти годы колоссального, сказочного успеха. Теперь уже ни один антрепренер не привез бы ему денег вперед, да и сам он об этом не решился бы заговорить.
– Налей! – приказал Костромской парикмахеру.
Больше в графине уже ничего не оставалось. Однако вино возбудило артиста. Глаза его, на которых нижние и верхние веки были подведены тонкими и резкими черными чертами, ожили и увеличились, согнутый стан выпрямился, в опухших ногах, плотно стянутых трико, появились упругость и сила.
Окончив туалет, он привычной рукой быстро прошелся по лицу пуховкой, обмакнутой в пудру, поглядел, слегка прищурив глаза, в последний раз в зеркало и вышел из своей уборной.
Когда медленной, самоуверенной походкой, высоко подняв голову, спускался он с лестницы – каждое его движение казалось проникнутым той легкой и грациозной простотой, которой он, бывший приказчик суровской лавки, приводил в Москве в изумление видевших его актеров французской труппы.
Навстречу Костромскому уже мчался сценариус.
В зрительном зале ярко и весело вспыхнул газ. Нестройный хаос оркестра вдруг смолк. Гул толпы на мгновение прокатился сильнее и вдруг точно ослабел. Раздались звуки торжественного и громкого марша. Костромской подошел к занавесу и приложил глаз к проделанной в нем на высоте человеческого роста маленькой круглой дырочке. Театр был переполнен. Только в первых трех рядах можно было рассмотреть лица. А дальше, куда только ни обращался глаз,– налево, направо, вверху, внизу,– колыхалась в каком-то синеватом тумане бездна пестрых человеческих пятен. Только белые с золотыми арабесками и бархатными малиновыми барьерами бока лож выступали из этой волнующейся тьмы. Но, глядя сквозь дырку в занавесе, Костромской не нашел в своей душе ощущения – прежде так знакомого и всегда одинакового свежего и могучего ощущения – мгновенного и радостного подъема всех нравственных сил. Вот уже ровно год, как он перестал испытывать его, объяснял свое равнодушие привычкой к сцене и не подозревал, что это – начинающийся паралич истрепанной и усталой души.
На сцену влетел режиссер, весь красный, в поту, со взъерошенными волосами.
– Черт! Идиотство! Все к черту пошло! Зарезали! – вопил он неистовым голосом, подбегая к Костромскому.– Эй вы, дьяволы, давай занавес! Выйду и анонсирую сейчас, что спектакля не будет. Нет Офелии! Понимаете? Ведь Офелии нет!
– То есть как это Офелии нет? – изумился Костромской и нахмурил брови.– Да вы шутите, что ли, мой друг?
– Вовсе мне не до шуток,– огрызнулся режиссер.– Вот сейчас только, за пять минут всего, полюбуйтесь-ка, что эта идиотка пишет! «Угорела, лежу в постели и играть не могу». А? Нет, каково вам это покажется? Это, батенька, не фунт изюму, с вашего позволения, а отмена спектакля.
– Замените же ее кем-нибудь,– вспыхнул Костромской.– Какое мне дело до ее фокусов?
– А вот извольте заменить: Боброва – Гертруда, Маркович и Смоленская – свободны и уехали с драгунами за город. Не комическую же старуху заставить играть сейчас Офелию? Как вы думаете? Или вот еще, если угодно,– девица на выходах, не предложить ли ей?
Он прямо ткнул пальцем на проходившую по сцене девушку в скромной шубке и барашковой шапочке, с бледным нежным личиком и большими синими глазами. Девушка, удивленная этим неожиданным обращением, остановилась.
– Кто это? – осведомился вполголоса Костромской, пытливо вглядываясь в лицо девушки.
– Юрьева. Тут у нас на выходах. Страстью к драматическому искусству воспылала, изволите ли видеть! – ответил режиссер громко и совершенно не стесняясь.
– Послушайте-ка, Юрьева, вы «Гамлета» читали когда-нибудь? – спросил Костромской, приближаясь к ней.
– Конечно, читала,– произнесла девушка тихим, смущенным голосом.
– Могли бы сыграть вот сейчас Офелию?
– Я ее знаю наизусть, но не знаю, в состоянии ли сыграть. Костромской подошел вплотную к ней и взял ее за руку.
– Видите ли… Милевская отказалась играть, а театр переполнен. Решайтесь, голубушка! Вы нас всех выручите!
Юрьева колебалась и молчала, хотя ей хотелось сказать много, очень много знаменитому артисту. Он впервые, года три тому назад, своей удивительной игрой пробудил в ее молодом сердце, сам, конечно, того не подозревая, неудержимое влечение к сцене. Она не пропускала ни одного спектакля, в котором он принимал участие, и часто, после того как видела его в «Кине», или в «Семье преступника», или в «Уриэле Акоста», она плакала по ночам. Величайшим и никогда, по-видимому, не достижимым счастьем она считала тогда возможность… не говорить с Костромским, нет, нет об этом она не смела и мечтать, а только видеть его вблизи, в обыденной обстановке.