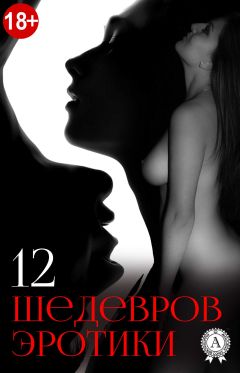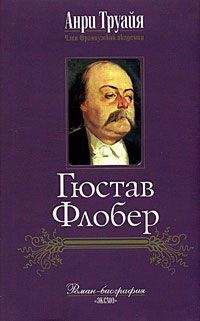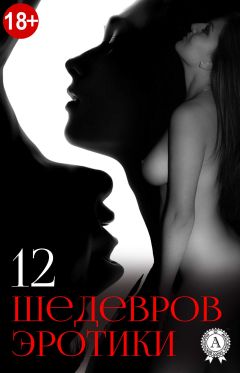Гюстав Флобер
Госпожа Бовари
Провинциальные нравы
МАРИ-АНТУАНУ-ЖЮЛЮ СЕНАРУ,
члену парижского сословия адвокатов, бывшему председателю Национального собрания, бывшему министру внутренних дел.
Дорогой и прославленный друг!
Позвольте мне во главе этой книги и перед ее посвящением поставить ваше имя: не кому другому, как вам, обязан я в первую очередь ее выходом в свет. Сделавшись предметом вашей блестящей защитительной речи, мой труд для меня самого приобрел некий новый и неожиданный авторитет. Примите же здесь дань моей признательности; как бы велика она ни была, ей никогда не стать на уровень вашего красноречия и вашей преданной дружбы.
Гюстав Флобер.Париж, 12 апреля 1857 г.
Мы готовили уроки, когда вошел директор, а за ним новичок в штатском и служитель, который нес большую парту. Задремавшие проснулись, и все вскочили, словно только что оторвались от работы.
Директор знаком велел нам садиться и вполголоса сказал воспитателю:
– Вот, господин Роже, рекомендую вам нового ученика. Он поступает в пятый класс, но, если заслужит своими успехами и поведением, перейдет в старшие, как ему подобает по возрасту.
Новичок стоял в уголке за дверью, так что нам был еле виден. Это был деревенский мальчик лет пятнадцати, ростом выше нас всех. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у сельского певчего; вид степенный и очень смущенный. Хотя он был неширок в плечах, но зеленый суконный пиджачок с черными пуговицами явно жал ему в проймах. Из обшлагов высовывались красные, непривычные к перчаткам руки. Из-под высоко подтянутых на помочах панталон желтоватого цвета виднелись синие чулки. Башмаки были грубые, плохо вычищены, подбиты гвоздями.
Начали спрашивать уроки. Новичок ловил каждое слово и слушал внимательно, точно проповедь в церкви, не смея ни облокотиться, ни заложить ногу за ногу. В два часа, когда зазвенел колокольчик, воспитателю пришлось позвать его: сам он не стал с нами в пары.
У нас был обычай, входя в класс, бросать каскетки на пол, чтобы поскорее освободить руки. Кидать каскетку полагалось еще с порога, старались швырнуть ее под лавку и об стену, чтобы поднять побольше пыли. Такова была наша манера.
Но то ли новичок не заметил этого приема, то ли не посмел повторить его за нами, во всяком случае молитва уже давно кончилась, а он все еще держал свою каскетку на коленях. Это был сложный головной убор, соединявший в себе элементы и гренадерской шапки, и уланского кивера, и круглой шляпы, и мехового картуза, и ночного колпака, – словом, одна из тех уродливых вещей, немое безобразие которых так же глубоко выразительно, как лицо идиота. Яйцевидный, распяленный на китовом усе, он начинался ободком из трех валиков, похожих на колбаски; дальше шел красный околыш, а над ним – несколько ромбов из бархата и кроличьего меха; верх представлял собою что-то вроде мешка, к концу которого был приделан картонный многоугольник с замысловатой вышивкой из тесьмы, и с этого многоугольника спускался на длинном тоненьком шнурочке подвесок в виде кисточки из золотой канители. Каскетка была новенькая, с блестящим козырьком.
– Встаньте! – сказал учитель.
Новичок встал, каскетка упала на пол. Весь класс захохотал.
Новичок нагнулся и поднял каскетку. Сосед подтолкнул ее локтем, она упала; он поднял ее еще раз.
– Да отделайтесь вы от своей каски! – сказал учитель: он был человек остроумный.
Школьники так и покатились со смеху, а бедный мальчик совсем растерялся и уже не знал, держать ли ему каскетку в руке, бросить ли ее на пол, или надеть на голову. Наконец он сел и положил ее на колени.
– Встаньте, – повторил учитель, – и скажите, как ваша фамилия.
Новичок, запинаясь, пробормотал что-то совершенно неразборчивое.
– Повторите!
Снова послышалось бормотанье, заглушенное хохотом и улюлюканьем всего класса.
– Громче! – закричал учитель. – Громче!
И тогда новичок непомерно широко разинул рот и с отчаянной решимостью, во все горло, словно он звал кого-то, кто был далеко, завопил: «Шарбовари!» Оглушительный шум поднялся в ту же секунду и все нарастал мощным crescendo[1] со звонкими выкриками (мы ревели, выли, топали ногами, беспрестанно повторяя: «Шарбовари, Шарбовари!»), потом он распался на отдельные голоса и никак не мог улечься, то и дело пробегая по всему ряду парт, вспыхивая там и сям приглушенным смешком, словно не до конца погасшая шутиха.
Но вот под градом наказаний понемногу восстановился порядок, и учитель, наконец, разобрал слова: «Шарль Бовари», заставив новичка продиктовать себе это имя, произнести его по буквам и вновь перечитать, а затем приказал бедняге сесть на «скамью лентяев» у самой кафедры. Новичок двинулся с места, но тут же в нерешительности остановился.
– Что вы ищете? – спросил учитель.
– Кас… – робко начал было новичок, озираясь вокруг беспокойным взглядом.
– Пятьсот строк всему классу.
Этот яростный окрик, подобно грозному «Quos ego!»,[2] остановил новый взрыв.
– Да успокойтесь же наконец! – с негодованием добавил учитель и, вытащив из-под шапочки платок, отер пот со лба. – А вы, новичок, двадцать раз письменно проспрягаете «ridiculus sum».[3]
И более ласковым голосом сказал:
– Ну, найдется ваша каскетка. Никто ее не украл.
Наконец наступила полная тишина. Головы склонились над тетрадями, а новичок просидел все два часа в самой примерной позе, хотя время от времени ему и попадали в лицо ловко пущенные с кончика пера шарики жеваной бумаги. Но он только отирал рукой брызги и продолжал сидеть совершенно неподвижно, опустив глаза.
Вечером, когда пришло время готовить уроки, он вынул из парты нарукавники, разобрал все свои вещи, тщательно разлиновал бумагу. Мы глядели, как добросовестно он работал, старательно проверяя все по словарю. Должно быть, только благодаря этому неподдельному усердию он и не остался в младшем классе: грамматические правила он знал неплохо, но в оборотах его речи не было никакого изящества. Жалея деньги, родители постарались отдать его в коллеж как можно позже, и начаткам латыни он учился у деревенского священника.
Отец его, отставной военный фельдшер, г-н Шарль-Дени-Бартоломе Бовари около 1812 года скомпрометировал себя в какой-то истории с рекрутским набором, был вынужден покинуть службу и воспользовался своими личными качествами, чтобы мимоходом подцепить приданое в шестьдесят тысяч франков, которое давал за дочерью владелец шляпного магазина. Девушка влюбилась в его фигуру. Красавец-мужчина и краснобай, он звонко щелкал шпорами и носил усы с подусниками; на пальцах у него всегда сверкали перстни, одевался он в яркие цвета и вид имел самый бравый, отличаясь при этом живостью и развязностью коммивояжера. Женившись, г-н Бовари два-три года проживал приданое: хорошо обедал, поздно вставал, курил длинные фарфоровые трубки, каждый вечер бывал в театре и часто ходил в кафе. Потом тесть умер и оставил сущие пустяки; г-н Бовари вознегодовал, увлекся фабричным производством, чуть не разорился и удалился в деревню, чтобы здесь себя проявить. Но так как в земледелии он понимал не больше, чем в ситцах, так как лошадей он отрывал от пахоты и катался на них верхом, а вместо того чтобы продавать сидр бочками, сам пил его бутылками; так как лучшую птицу своего птичника он съедал, а салом своих свиней смазывал охотничьи сапоги, то вскоре ему пришлось убедиться, что рассчитывать на хозяйство не приходится.
И вот за двести франков в год он снял в одной деревушке, на границе Ко и Пикардии, нечто среднее между фермой и барской усадьбой, и сорока пяти лет от роду засел там, снедаемый тоской и досадой, ропща на бога и завидуя всем на свете. Он говорил, что разочаровался в людях и решил доживать век на покое.
Жена когда-то была от него без ума. Она любила его рабски, и это только отдаляло его от нее. Смолоду веселая, оживленная и любящая, она с годами стала раздражительной, плаксивой и нервной: так вино, выдыхаясь, превращается в уксус. Сколько выстрадала она, не жалуясь, в первое время, когда муж бегал за каждой деревенской девчонкой, а по вечерам приходил домой из каких-то притонов, – приходил пресыщенный, пропахший вином! Но потом в ней пробудилась гордость. Тогда она умолкла, затаила злобу и замкнулась в немом стоицизме, который хранила до самой смерти. Вечно она была в бегах, в хлопотах. Это она ходила к адвокатам, к председателю суда, она помнила сроки векселей, добивалась продления; дома она гладила, шила, стирала, следила за работниками, расплачивалась по счетам. А в это время ее супруг, ни о чем не заботясь и постоянно пребывая в брюзгливой полудремоте, которую он прерывал только для того, чтобы говорить жене неприятности, спокойно сидел у камина, покуривая трубку и сплевывая в золу.