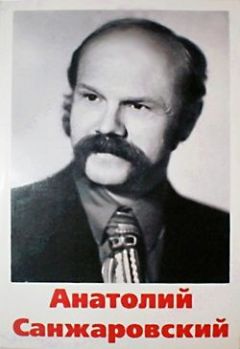17
Где правда, там и счастье.
Лев уже и львёнком грозен.
А на поверку, поливуха эта разве что не святая.
Нету в округе человека, не любил бы кто, а раз так, так нету и человека, кто не свиданничал бы на ней.
В день золотой, серебряной ли свадьбы старики норовят встретить восход солнца здесь, где Бог знает и когда дали обет верности.
Так вот, пробыли мы на поливухе раз до ветра, до раннего утра, пробыли два. А где два, там и три…
– Постой, постой, это ты липу сгонял. А где ж спал?
– Где… С рассветом добирались до города, я провожал её к её подъезду, а там вприскок летел – это было ближе общежития – к себе на посудину, старую и полурассохшуюся, некогда знавшую и заморские столицы, и индейские фиквамы,[9] и ветры всех широт.
Забирался в капитанскую каюту и спал, покуда не проявлялся народ.
Спал я будко.
При первых посторонних звуках вскакивал бодрый, свежий, готовый к труду и обороне от шпилек, что сыпались на новичка-неумёху со всех ветров.
Сцепив зубы, со злостью и рьяностью делал молча всё подряд, что мне ни вели; не прохлаждался, не гонял я чичеров – надсаживался, гнал глаза на лоб, а делал, и делал грех жаловаться.
Вчера вот к вечеру лопатил в охотку палубу. Подходит старшой. Туда глазом, сюда глазом. Наблюдает.
Я на него ноль эмоций, будто его и нету. Думаю, сейчас ещё понукать начнёт, скорей, скорей, мол, давай. Я уже ответ на такой случай держу: «Скорей сгорел, один постой остался».
Только он ничего, выставил пузо, хоть блох колоти, молча лыбится. Смотрю, возлагает мне руку на плечо.
Я остановился.
– Сердито, хлопче, ломаешь горб. Молодчага! – и тычет за спину кулак зубоскалам из рубки: всё задирались они ко мне. Там тех чертей семь четвертей, у этих в зубах не застрянет.
– Сердит ёж, – отвечают со смехом, и смеются уже так, без зла совсем; чувствую, не прочь признать за своего.
Николаха на попятки не ходит. Всё, свои корабли сожжены, теперь дело свято… Э-э, да дай Вязанке только за нитку ухватиться – до клубка сам доберётся. Дай только на тропку ширью в ладошку выбраться – на большаке вознепременно будет!!!
Я совсем не узнаю Вязанку. Никогда не видал таким: весь светится радостью.
– Ты чё сияешь, как начищенный пятак? – спрашиваю. – Залетела сорока в высокие хоромы, не знает, где и сесть?
– А вот теперь, Гриша, знаю! – Вязанка выставил указательный палец. – Наверное знаю! Оттрубил часы свои вчерашние да и с колокольни вон. Пена с меня хлопьями, а я знай сыплю. Быстрей, быстрей к Танику-титанику!..
Сели на краешек поливухи, ноги у самой воды.
Таня (она в моём пиджаке внапашку) то да сё да и поднеси к глазам воображаемый бинокль.
– Да наша поливуха преотличный наблюдательный пост.
– И что ты там видишь?
– Восьмипалубный корабль. На капитанском мостике – ты!
– Ого, как подскочили мои акции. Уже капитан! А тут хотя бы в мореходку поступить.
– Ка-ак?
– Да как все. На общих основаниях.
В общем, дал Вязанка трещину. Самому ж себе в карман наплевал.
Как на духу выложил всю подноготную про себя, кто я да что я, наплёл чего лишку…
Ах, мать твоя тётенька, что за человечина эта Таня! Не могу плести ей, что попало как раньше. Раньше я жил чужой жизнью – книжками да кино. А выполз на свою в жизни уличку, на свой свет… Вижу, пустой я, как стекло. Вижу, не то из книжек я брал, не на те картины по десять раз срывался с уроков.
Так что же тогда то? Первая вот такая из девчонок, заставила задуматься. Пропасть понарассказал… Помянул и про то, как обидел на вокзале белянку…
Словом, говорю, всяк носит прозвище, какого достоин. Про непутевого как скажут? Не человек, а охапка пустяков. Так вот я не охапка – целая вязанка copy болотного. Теперь карты раскрыты, самый тебе раз спровадить меня с колокольным звоном…
Покуда я говорил и потом, минуты ещё с три, когда перестал уже, она всё молчала, только пристально взглядывала на меня с крутеющей, всё выжидающей тревогой, и – выдай:
«Если уж кого и спроваживать, так только не тебя, летучий ты мой голландец!»[10]
И выпела тако-ое!..
Подумаешь, так ну вроде и жить ещё не жила на свете, а напутала не меньше моего. Поди размотай те клубочки…
Ещё в школе лип к ней Гарпиус. Против сердца он ей, и за сто раков на дух не нужен, а ему всё нейдётся вон, всё рассчитывал, куда-нибудь да и вывезет коренная, всё вился, вьюном вился, всё чего-то ждал, чуда какого, что ли, настырно выжидал, всё прикидывал, может, посолится – по-хлебается, всё надеялся на авось; авось, время свое слово выскажет, авось, время свое дело сделает.
И сказало, и смазало…
Вскоре, не загрязнилась ещё дорожка, как говаривал на вокзале твой дедок, за которого на том свете давно, наверное, уже пенсию получают, вот тебе Сергей.
Тоже мне обменяла горшок на глину…
С этим зашла далеко. До загсовских порожек.
Понесли заявку.
Уже на ступеньках Серёга хлоп, хлоп себя по кармашкам.
– Забыл паспорт!
Вертаться не стали, не к добру. А назавтра ему в долгое плавание.
– Ничего, – сказал Серёга, – загс не туча, ветром не угонит. Вернусь, по всем правилам расставим все точушки.
А на рассвете нового дня устроил в порту разнос.
– Разве кто просил тебя приходить? Нечего тут плавить асфальт своими горючими!
– Я хотела как лучше.
– Не делай своё хорошее, делай моё плохое!
Взял крепко за локоть, провёл шага три в сторону её улицы, как какая-то молодайка приятной наружности, семь вёрст в окружности, было не запустила ей когти в волосы.
– А-а! – кричала молодка, хватая Серегу за ворот и силясь дотянуться другой, тяжёлой и красной, рукой, до Таниного виска. – Так те, кобелино отощалой, во-о на ком приспичило поджаниться? При живой жане да при годовалом дитяти!? Промежду двух рос какой репей возрос! – Мне б только её за волосёнки цопнуть! А там я в моментий ощиплю радость твою!
При последних словах толстый, короткий палец молодухи, которую Серега не без робости ловчил утихомирить, ткнулся на миг в низ Таниной щеки, что вывело девчонку из оцепенения, и Таня, прикрыв со стыда глаза рукой, метнулась в сонный ещё проулок.
Ближе туда к обеду в столовку вошёл «веселыми ногами» Гарпиус.
– После той сцены с «неловким бегством Галатеи», – говорил он хмурясь, однако вовсе и не скрывая своего жёлчного восторга, – Серж, кореш мой… Не удивляйся, я ничего не собираюсь возводить в квадрат, – Гарпиус осклабился, сверкнул золотым зубом сбоку. – Весёленький натюрмортик… В деликатных словах Серж дал понять, не худо бы хоть в четверть глаза присматривать за тобой и держать его в курсе всех твоих вольностей. Я не возразил… Скажешь, из мести приспособился. Да! Приспособился! Не нравится, пиши жалобу на царя, только отныне, – он стал размашисто писать пальцем в воздухе, – я персональный твой биограф…
– Подонок!
– Что поделаешь. Люди склонны одно и то же разно квалифицировать.
Вязанка замолчал, нервно похрустывая пальцами. Подумал. Снова продолжал:
– Так на что ж ты тогда, говорю, именно Гарпиуса и просила нас перевезти?
– А с интереса злого… Пускай сам покипит да и кореша порадует. А то уже пятое вчера его письмо отправила назад без распечатки и ни точки от себя.
Чужая душа не гумно: не заглянешь.
К чему охота, к тому и смысл.
Остановившимися глазами Таня тяжело смотрела перед собой на воду.
Смотрел на воду и я, но уже не видел того золота, что в первую встречу.
Грозная тёмно-синяя бездна чуть колыхалась у ног, лизала подошвы низко подбрасываемыми гребешками слабых волн, которые, кажется, всё крепчали, матерели единственно затем, чтоб сбросить нас в пучину.
С берега – до него не дальше двух ружейных выстрелов – донеслось тонкое взлаивание собаки. Лаяла во сне: сон видела. Оттуда же, с берега, певкие петухи величали уже пробуждающийся молодой день, тихий, душный.
Мимо шла моторка в сторону города.
С моторки спросили:
– Эй, робинзоны! К цивилизации не пора?
Мы согласно закивали головами. Нас подвезли.
Сегодня у Тани день рождения. Событие какое!
Хочешь не хочешь, а придётся поднять на должную высоту лампадку кавээнчика и выкушать.
Будут мама, Таня и только единственный гость, ваш покорный слуга.
Танёчик представит меня матери. А знаешь, что это значит? Настраивайтесь, музыканты, на марш Мендельсона! Вон какие, Грицько, получаются пирожки с таком…
Я вздохнул:
– Кто-то сказал, любовь делает людей сначала слепыми, а потом нищими. Ты в какой сейчас стадии?
– Стадия одна. Да здравствует любовь с первого взгляда!
– А ну что ты запоёшь, как посмотришь во второй раз?
– А то же самое. Песенка у меня одна.
– Бедный репертуар. И что, на фаэтоне[11] повезете в загс автографы свои?
– Спрашиваешь!.. Постой… Чего это ты засиял, как новенький хрусталик?