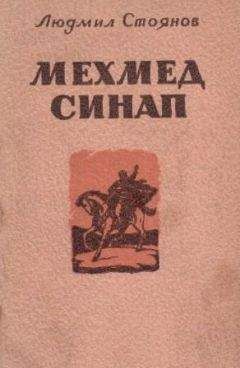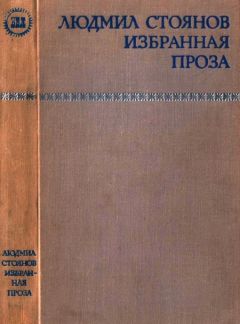Вот какие мысли обуревали Синапа, когда он сказал своей жене, что его конак «и пушкой не прошибешь».
Гюла заглядывала ему в глаза и ликовала. Вот он какой, ее Мехмед! Она не знала, что он собственно делает во время своих летних отлучек; но то, что все его любили и слушались, как своего повелителя, совершенно успокаивало ее.
Он был ахрянин, но не запрещал ей соблюдать некоторые христианские праздники, к которым она привыкла дома.
По вечерам, проводив своих гостей, с которыми толковал об общих делах населения Чечи, он шел к жене, чтобы расспросить ее о домашних делах. Еще в дверях он кричал ей:
— Гюла! Завтра жду от тебя слоеного пирога!
— Тише, глупый, — останавливала она его. — Маленького разбудишь!
Время шло, погода улучшалась. Зима стала мягче, подули теплые ветры. Прошел Афанасьев день, леса очистились от снега, только поляны были еще в пятнах: на них местами блестели лужи и остатки почерневшего снега.
Ранняя весна пугала людей. Чуть засеешь в хорошую погоду, а лютый мороз как стукнет после Юрьева дня, и все пошло прахом: и труд, и надежды! Так было и на этот раз. Застонали села, задрожала вся Чечь.
Старухи, встречаясь с Синапом, останавливали его:
— Сынок, сынок, что будем делать, когда все вымерзнет? Вся наша надежда на тебя!
Синап не отвечал; тяжело было выслушивать этих раздетых и голодных людей. Он запасал зерно в складах про черный день. Но кому выдать раньше? Еще до Петрова дня было роздано все до последнего зернышка, и люди слонялись, как тени; везде были видны испуганные лица, голод непрошенным гостем ходил от дверей к дверям.
Что тут можно было поделать? Порою он чувствовал себя как зверь в клетке. Велика была земля султана, за год не исходишь; и где-то на этой земле, затерявшись, как капля в море, сидит упрямый Мехмед Синап, человек, рожденный в лачуге, который с детства не помнит, сидел ли он когда-нибудь за столом и ел ли что, кроме качамака на воде и уксусе!
Синап получил письмо:
«Пес! Ты скверный пес, которого давно ищет пуля. Ты обездолил целую нахию, все подвластные султана жалобно стонут из-за тебя. Какой же тебя смертью казнить? Выбери сам, ибо подошел последний твой час.
Кара Ибрагим, бюлюкбашия»[25].
Человек, принесший это письмо, стоял внизу, во дворе.
Он проваживал своего коня и терпеливо ждал.
Явился он оттуда, из-за горизонта, откуда шли все дурные вести, все приказы паши о доставке денег в казну, о наборе солдат для армии; там находились тюрьмы, правительственные суды, казенные учреждения, которые Синап ненавидел, как притоны бездельников и разбойников, где ковалась его гибель.
Письмо взбудоражило его, обострило всю его злобу, всю решимость бороться до конца, излить в мести все свое презрение к наемникам падишаха, к насильникам и убийцам народа.
Он приказал позвать посланца и угостить его, но сам не вышел расспросить, что нового у Кара Ибрагима.
Да и что мог он ему сказать?
Синап знал, что придет и его час; поэтому он хотел быть наготове со своими людьми, он хотел найти союзников, чтобы дать отпор врагу.
Турки, неженки, державшие целые толпы женщин в своих гаремах, имевшие необозримые земли и послушную райю, уважали только силу.
Синап оглядел лошадь солдата и нашел, что она хорошо откормлена. Как видно, это уж не те армейские клячи, каких он знал раньше.
Он умел делать выводы из самых мелочных фактов, как умный человек, богатый врагами.
Он сделал из сажи чернила, вырвал листок из старой общинной книги.
С тем же человеком он передал такой ответ:
«Не заносись, Ибрагим-ага, и ты не ароматный цветочек. Кому же не известны зверства Кара Ибрагима — турка Ибрагима — в шайках Пазвантоолу? Теперь ты присмирел, потому что ты наймит султана; но знай, что и меня падишах помиловал и принял в султанскую армию. Сейчас поручаю тебе следующее: скажи вали-паше в Пловдиве, чтобы он прислал двести вьюков ржи и кукурузы для голодающего народа. Тогда и Синап поговорит с тобою. Будь здоров.
Мехмед Синап, атаман».
Письмо Кара Ибрагима злило Синапа, ибо не сообщало ничего положительного: чего хочет окружной начальник? Оно было полно ругательств, в которых разгневанный жандарм изливал свою досаду. Но Синап нашел случай сообщить ему причины бунта.
Ночью Мехмед Синап сидел и долго думал.
Ему не спалось.
На очаге тлела лучина, бросая на стену огромные тени. Они сплетались, бегали, как живые, мчались, как всадники, падали. Синап следил за ними.
Мысли бушевали в его голове. Подобно этой лучине горели ночами на равнине чифлики, и огни отражались в Марине. Ему вспомнился Караман-бей, огромный живот этого турка, его страх и унижение, затем богатая добыча, рослый черный жеребец... Простят ли ему это те, что трясутся над каждой копейкой?
Он спустился вниз и разбудил Муржу.
Тот спал на земле, положив руку под голову, в рубахе нараспашку.
— Подымайся, эй, дурачина! — шутливо сказал ему Синап. — Я поручаю тебе важное дело. Ведь ты самый умный из моей стражи!
Он приказал ему снарядиться как можно скорее и отправиться в Пазарджик-бей за оружием и припасами.
— Ты сумеешь надуть этих читаков. Но я хочу, чтобы ты и разузнал кое-что. Сколько в городе аскеров? Как они одеты? Что говорят о бунтовщиках? Оживилась ли торговля?
— Можно... — и Муржу продрал глаза. — А этот, гость-то, не хочет есть нашей еды, поганец! «У меня, извините, своя снедь в суме имеется». И поклонился. «Да ты знаешь ли, — говорю, — кто таков есть Мехмед Синап?» — «Йок, — говорит, — нет, не знаю, но наверное большой человек, паша». — «Да ты почем судишь?» — спрашиваю. «Вельможи его уважают. Да и кушак на нем новый, и сбруя на коне так и блестит!»
Синап засмеялся, хотя ему было не до смеха.
— Кто он такой? Откуда пришел? Ведь челядь Кара Ибрагима — нищие.
— Да снизу, из Хюлбе. Там их целое войско, стерегут дорогу.
— Ага... — заключил Синап и удалился медленной поступью.
На другой день Синап встал рано и, сев на коня, двинулся со своей свитой тайными тропами, где еще не ступала человеческая нога, за Карлук, за Персенк, к землям Кирджала.
Конь его был весь в мыле.
В этих местах он еще не бывал. С той поры, когда он пас стада Метексы, прошли годы, и широкие луга, которые он пересекал, поляны и скалистые ущелья походили на оставшиеся в его памяти: ему все казалось, что он уже здесь проезжал. Отдельные деревья казались ему знакомыми, шум реки и эхо конских копыт оживили его.
Свобода! Она кивала ему на всяком повороте, с каждой вершины, она манила его, как милого сына. О ней говорили ему песни пернатых, шопот травы и дикая прелесть цветов.
Вот оно, царство Эминджика! Оно укрылось в теснинах, оно неприступно, оно утопает в тишине и приволье.
Высоко стоят стены его дома, с бойницами и башнями, как крепость. Он белеет вдали, в зеленом море лугов и лесов.
О приезде Синапа было доложено.
Эминджик самолично спустился вниз, чтобы встретить гостя.
Они обнялись и расцеловались.
Синап, высокий и стройный, с искрящимися глазами и загорелым лицом, словно державший удачу в руках, и Эминджик, малорослый турок с желтой, как воск, кожей и впалыми щеками, с хитрым взглядом, — оба переглядывались, сидя друг против друга. Так лесные волки обнюхивают друг друга, пока не убедятся, что они одной породы. Эминджик был рад своему гостю — слава Синапа гремела повсюду, донеслась даже до султанского дивана. Он встретил Синапа с большим почетом и, приглашая его к обеду, отчеканил:
— Добро пожаловать, брат Синап, будь у меня как дома и знай, что этот дом никогда еще не принимал более достойного мужа!
Синап не любил похвал и ответил просто:
— Я вижу, что у тебя широкое сердце, брат Эминджик, и с радостью сяду за стол с человеком, который не раз защищал бедноту от притеснений пашей и беев.
Эминджик возразил:
— Ты прав, брат Синап, и я тоже почитаю тебя, как защитника бедноты.
— Говорят, — сказал Синап после короткой паузы, — что падинах запросил у нас мира и послал людей для переговоров. Что тебе известно об этом?
— Я знаю, что Кара Феиз и сам Индже перешли на сторону султана и зачислились в его войско. В добрый им час, а мы еще не кончили своего дела!
Эминджик ударил себя кулаком по колену и продолжал:
— Нас считают разбойниками за то, что мы кормим голодный народ; а они, праведники, отнимают у бедняка последний грош!
Синап согласился с мнением собеседника. Он только спрашивал себя: искренен ли Эминджик? Он привык сомневаться в людях, и теперь, разглядывая сухое, бледное лицо главаря мятежных турок с длинным чубуком в зубах и белой шелковой чалмой на голове, силился отгадать его тайные мысли. Эминджик добавил: