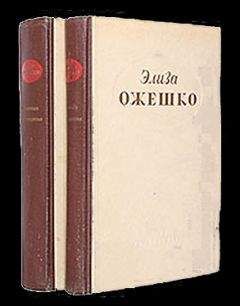Услышав сыпавшиеся из уст меламеда и обращенные к нему вопросы, Меир Эзофович, правнук Герша и внук старого Саула, не сел за стол, а, стоя и опустив глаза в землю, тихим от очевидной робости голосом ответил:
— Ребе! Я не был там, где веселятся или устраивают выгодные дела. Я был там, где темно и где в темноте сидят и плачут очень бедные люди…
— Ну! — воскликнул меламед, — а где может быть сегодня печально? Сегодня шабаш, везде светло и весело… где может быть сегодня темно?
Несколько старших членов семьи подняли голову и хором повторили вопрос:
— Где может быть сегодня темно?
И вслед за этим сейчас же прозвучал другой вопрос, так же произнесенный хором:
— Где ты был, Меир?
Меир не отвечал. На лице его с опущенными глазами выражались робость и внутреннее колебание.
Вдруг одна из девушек, сидевших у нижнего конца стола, та самая, которая за минуту перед этим ввела в комнату старую прабабушку, девушка с тонкими чертами лица и с черными шаловливыми глазами, весело воскликнула, хлопая в ладоши:
— А я знаю, где сегодня темно!
Все взгляды обратились на нее, и все в один голос спросили:
— Где?
Под влиянием обращенного на нее всеобщего внимания Лия покраснела и уже тише, с некоторым смущением произнесла:
— В лачуге; Абеля Караима, в той самой, что стоит у Караимского холма.
— Меир! Ты был у караимов?
Вопрос этот был произнесен добрым десятком голосов, среди которых все же выделялся, покрывая все остальные, крикливый, резкий голос меламеда.
На смущенном до тех пор лице юноши появилось выражение неудовольствия и довольно резкого раздражения.
— Я не был у них, — ответил он уже несколько громче, чем раньше, •— но я защитил их от нападения.
— От нападения? От какого нападения? А кто нападал на них? — насмешливым голосом спрашивал меламед.
Тут Меир сразу поднял глаза и сверкающим взглядом пристально посмотрел в лицо говорящему.
— Реб Моше! — сказал он, — ты знаешь, кто нападал на них. На них нападали твои ученики… Они каждую пятницу делают это… А почему бы им и не делать так, когда они знают…
Он остановился и снова опустил глаза. Опасение и гнев, как видно, боролись в нем.
— Ну! Что они знают? Почему ты, Меир, не окончил? Что они знают? — смеялся реб Моше.
— Знают, что ты, реб Моше, похвалишь их за это…
Меламед несколько приподнялся на стуле, глаза его засверкали и широко открылись. Вытянув темную худую руку, он хотел что-то сказать, но на этот раз ему помешал уже сильный и звонкий голос юноши:
— Реб Моше, — говорил Меир, немного наклоняя перед меламедом свою голову, которая, должно быть, неохотно соглашалась на покорный поклон, — реб Моше, я уважаю тебя… ты учил меня… Я не спрашиваю тебя, почему ты не запретишь своим ученикам производить в темноте насилие над бедными людьми, но я сам не могу смотреть на это насилие… у меня сердце болит, потому что в голову приходит мысль, что из таких злых детей выйдут злые люди; и что если они теперь нападают на бедную лачугу старика и бросают в него камнями через окно, то потом будут поджигать дома и убивать людей! Они и сегодня разнесли бы эту бедную избушку и избили бы этих бедных людей, если бы я не пришел туда и не защитил… Но я пришел и защитил…
С последними словами Меир сел за стол на предназначенное ему место. На лице его не было уже и следа опасения или смущения. Глубоко, очевидно, чувствовал он правоту своего дела, потому что смелым взглядом посмотрел вокруг, и только губы его дрожали, что бывает обыкновенно у натур свежих и впечатлительных.
В ту же минуту, однако, старый Саул и два сына его подняли вверх руки и в один голос произнесли:
— Шабаш!
Голоса их звучали торжественно, а взгляды, которые они бросали на Меира, были суровы и почти гневны.
— Шабаш! Шабаш! — подскакивая на стуле и широко разбрасывая руки, подхватил и кричал меламед. — Ты, Меир, в святой вечер шабаша, вместо того чтобы произносить кидуш и наполнять сердце свое великой радостью и отдавать ее в руки ангела Мататрона, защищающего племя Иакова перед богом, для того чтобы он передал ее в руки Сар-га-Олама, ангела над ангелами и князя мира, а Сар-га-Олам отдал ее десяти сефиротам, которые являются такой великой силой, что сотворили весь мир, чтобы через этих десять сефиротов душа твоя достигла великого трона, где сидит сам Эн-Соф, и соединилась с ним поцелуем любви, — ты, Меир, вместо всего этого ходил защищать каких-то людей от каких-то нападений, ходил охранять их дом и оберегать их жизнь! Меир! Меир! Ты нарушил шабаш! Ты должен пойти в дом молитвы и громко покаяться перед целым народом в том, что совершил великий грех и вызвал большой соблазн!
Эта речь меламеда произвела на собравшихся сильное впечатление. Саул и сыновья его приняли грозный вид; женщины были удивлены и испуганы; в черных глазах Лии, выдавшей тайну двоюродного брата, блестели слезы. Только зять Саула, приветливый, голубоглазый Бер, поглядывал на обвиняемого как будто с грустным сочувствием, а несколько юношей, ровесники Меира или моложе его, смотрели ему в лицо, не отрывая глаз, с любопытством и дружелюбным беспокойством.
Меир ответил несколько дрожащим голосом:
— В священных книгах наших, реб Моше, в Торе и в Мишне, ничего нет ни о сефиротах, ни о Эн-Софе. Но зато там ясно сказано, что Иегова хотя и велел праздновать шабаш, однако позволил, чтобы двадцать человек нарушили его ради спасения одного человека.
Уже самое намерение отвечать меламеду, человеку истинно благочестивому и правой руке раввина Тодроса, было неслыханной и изумительной дерзостью. А ведь, кроме того, Меир позволил себе, хотя бы и неясно выраженное, опровержение его мнений! Вот почему выпуклые глаза меламеда чуть не выступили из орбит, так широко они открылись и таким разъяренным взглядом окинули несколько побледневшее во время стычки лицо Меира.
— Караимы! — закричал он и начал метаться на своем стуле, руками хватаясь за бороду и волосы, — ты караимов спасал! Отщепенцев! Вероотступников! Проклятых! Зачем их спасать? Почему они в шабаш не зажигают огней и сидят в темноте? Почему они режут животных и птиц, служащих для еды, не спереди, а сзади шеи? Почему они не признают Мишны, Гемары и Зогара?
Он захлебнулся от волнения и умолк; и тогда снова раздался чистый и звучный голос Меира:
— Ребе, они очень бедны!
— Эн-Соф мстителен и неумолим.
— Они терпят преследования от народа!
— Непостижимый преследует их! — кричал ребе.
— Предвечный не велит преследовать. Равви Гуна сказал: если даже преследующий и прав, а преследуемый преступник. Предвечный заступится за преследуемого!
Огненный румянец появился у ребе Моше на темных щеках. Глаза его, казалось, готовы были съесть, пожрать бледное лицо юноши с пылающим, теперь уже смелым взглядом и с губами, дрожащими от множества невысказанных, насильно удерживаемых в груди слов.
У присутствующих был изумленный, испуганный, печальный вид. Подобное препирательство с меламедом одни считали грехом, другие видели в этом еще и опасность для дерзкого юноши или даже и для всей его семьи.
Потому-то Саул, устремив грозный взгляд из-под седых щетинистых бровей на лицо юноши, протяжно зашикал на него:
— Шааа!
Меир склонил перед дедом голову в знак покорности и подчинения, а один из сыновей Саула, желая смягчить гнев ребе Моше, а, может быть, также и для собственного назидания, спросил его:
— Какая существует разница в смысле авторитетности и святости между книгами Талмуда и Зогаром, книгами Каббалы? И не должен ли истинно благочестивый человек заняться изучением первых раньше, чем вторых?
Выслушав вопрос этот, меламед широко расставил оба локтя на столе, неподвижно вперил глаза свои с выражением глубокой мысли в противоположную стену и, не спеша, торжественным голосом начал говорить:
— Симон бен Иохай, великий раввин, который жил страшно давно и знал все, что делается на небе и на земле, сказал: Талмуд — это ничтожная рабыня, а Каббала — это великая королева. Чем наполнен Талмуд? Он наполнен очень маленькими, второстепенными вещами. Он учит, что чисто и что нечисто, что позволено и что запрещено; что скоромно и что не скоромно. А чем наполнен Зогар, книга сияния, книга Каббалы? Он наполнен великим учением о том, что такое бог и его сефироты. Он называет все имена их и учит, что они делают и как они создают мир. В нем написано, что бог носит имя Эн-Соф, а второе имя его — Нотарикон, а третье имя его — Гоматрия, а четвертое имя его — Зируф. А сефироты, которые являются великими небесными силами, называются: источник человечества, невеста, белая голова, большое лицо, малое лицо, зерцало, небесное жилище, земное жилище, лилия и яблочный сад. А Израиль носит имя Матрона, а бог для Израиля называется отцом; бог, Эн-Соф, не сотворил, мира, его сотворили только силы небесные, сефироты. Первый сефирот породил из себя божественную силу, второй всех ангелов и Тору (Библию), из третьего вышли пророки. Четвертый сефирот породил из себя божественную любовь, а пятый божественную справедливость, а шестой такую силу, которая все рвет, ломает и уничтожает. От седьмого сефирота произошла красота, от восьмого благородство, от девятого предвечная причина, а от десятого — око, которое постоянно бдит над Израилем и следует за ним по всем путям его и охраняет его ноги, чтобы они не поранились, и головы, чтобы на них не обрушивались великие несчастья. Всему этому учит Зогар, книга Каббалы, и она учит еще, откуда взялись эти сефироты, и как они разделяются, и как, по буквам, из которых составлены их имена, и по тем, из которых составлены имена бога, отгадывать все тайны мира! И это есть великое учение, самое главное для каждого израильтянина. Знаю я, что многие израильтяне говорят, будто Талмуд важнее; но все те, которые так говорят, глупы и не знают о том, что до тех пор земля будет содрогаться от великих страданий и до тех пор бог и Израиль, Отец и Матрона не соединятся поцелуем любви, пока рабыня не отступит перед королевой, Талмуд перед Каббалой. Когда же придет это время? Оно придет тогда, когда в мир явится Мессия. Тогда настанет, для всех людей благочестивых и ученых великий праздник радости! Тогда господь бог прикажет изготовить рыбу — Левиафан, которая так велика, что на ней стоит весь мир, и все примут участие в великом пиршестве, и будут эту рыбу есть — благочестивые и ученые люди с головы, а простой и неученый народ с хвоста!..