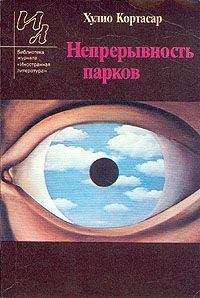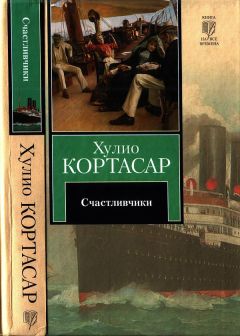– Вчера ты снова была с Перейрой?- спросил я вдруг.
– Я? С чего ты взял? Нет, не была, – солгала она.
Если у тебя уводят женщину, тут не до шуток, но если ты еще сам в этом виноват, совсем уж, понимаете, не до смеха. Когда я ей велел прийти ко мне той же ночью, она заплакала, стала говорить, что старший матрос или там боцман косо на нее смотрит и обо всем догадывается, что она не хочет терять места, и все такое прочее. Наверное, тогда я и понял, в чем тут дело, и стал соображать. На испанку-то мне было наплевать, хотя самолюбие взыграло. Но были вещи посерьезней, и я размышлял всю ночь. Той же ночью я снова увидел, как Петрона прошмыгнула в каюту Перейры.
На следующий день я изловчился поговорить со стариком Ферро. Я уже давно не думал на него, но хотел быть уверен. Он повторил мне, с подробностями, что едет во Францию к дочери, которая вышла за французишку и народила кучу детей. Старик хотел увидеть внуков, прежде чем протянет ноги, и таскал бумажник, набитый семейными фотографиями. Перейра появился поздно, заспанный. Опять… А Ламас таскался с французским самоучителем. Ну и компания! Так продолжалось почти до прихода в Марсель. Я только прижал Петрону раз или два в коридоре, но так и не добился, чтобы она пришла в мою каюту. Даже не вспоминала про обещанные деньги, хотя я напоминал ей каждый раз. Она воротила нос, слыша о песо, которые я ей задолжал, и я понял, что был прав, и все стало ясненько. Вечером накануне прибытия я встретил ее на палубе – дышала воздухом. Рядом был Перейра, увидел меня и сделал вид, что он тут ни при чем. Я выждал и в час, когда уже пора было идти спать, загородил дорогу испаночке, которая куда-то торопилась.
– Придешь?- спросил я, погладив ее по мягкому месту. Она отпрянула, будто черта увидела, но потом решила притвориться.
– Не могу, – сказала она.- Я же тебе объясняла – за мной следят.
Хотел дать ей по морде, чтобы не принимала меня за младенца, но сдержался. Было уже не до шуток.
– Скажи-ка, – спросил я, – ты уверена в том, что сказала про Перейру? Смотри, это очень важно. Может быть, ты не рассмотрела?
Я видел в ее глазах и боязнь, и желание рассмеяться.
– Да нет же, я ведь сказала тебе, что у него ничего нет. Ты что, хочешь, чтобы я снова к нему пошла ради проверки?
И улыбалась, сукина дочь, за губошлепа меня принимала. Я ее стукнул легонько и вернулся в каюту. Теперь уж мне было все равно, пойдет Петрона к Перейре или нет.
Утром чемодан был уже уложен, и все, что нужно, – в широком поясе. Французик буфетчик фурыкал немного по-испански и объяснил мне, что в Марселе полиция поднимается на борт и проверяет документы. Только после этого разрешают сойти на берег. Мы все встали в очередь и по одному показывали бумаги. Я дал сначала пройти Перейре, а когда оказались на другой стороне, взял его за руку и пригласил в свою каюту на глоток каньи. Он ее уже распробовал и поэтому сразу согласился. Я закрыл дверь на задвижку и посмотрел ему в глаза.
– А канья? – спросил он, но когда увидел, что у меня в руке, побледнел и отпрянул назад. – Не будь зверем… Из-за той девки… – успел он сказать.
Каюта оказалась тесной, пришлось перешагнуть через покойника, чтобы выкинуть нож в воду. Хотя уже было ясно, что это ни к чему, я наклонился посмотреть, не соврала ли Петрона. Подхватил чемодан, закрыл каюту на ключ и вышел. Ферро уже был на берегу и орал мне что-то на прощанье. Ламас ждал своей очереди молча, как всегда. Я подошел к нему и сказал пару слов на ухо. Думал, он с катушек свалится, но это только показалось. Он подумал немного и согласился. Я-то был уверен, то он согласится. Тайна за тайну, и оба сдержали слово. О нем я больше ничего не слышал после того, как он устроил меня у своих друзей-французишек. Через три года я уже смог вернуться. Так тянуло в Буэнос-Айрес…
Лилиана плачет
Хорошо еще, что это Рамос, а не посторонний врач, с ним-то давно уговор, я знал, что, когда наступит час, он скажет или хотя бы даст понять, не говоря всего. Бедняге было тяжело, ведь пятнадцать лет дружбы, и ночи за покером, и уик-энды за городом, но он таки сказал, а в решительный час, между мужчинами, это лучше, чем больничные враки, подкрашенные, как пилюли или розовая водичка, которую капля за каплей вливают в твои вены.
Три или четыре дня. Он может и не говорить, я знаю, он избавит меня от того, что зовется агонией, когда псу дают подохнуть своей смертью. Кому это нужно? На него можно положиться, последние пилюли по-прежнему будут зелеными или красными, но внутри – совсем другое, великий сон, заранее ему благодарен, а он, в изножье постели, смотрит на меня с потерянным видом, потому что правда опустошила его, беднягу. Не говори ничего Лилиане, зачем расстраивать ее раньше времени. Вот Альфредо – да, ему можешь сказать, чтобы освободился немного от работы и занялся Лилианой и мамой. И будь другом, скажи сиделке, чтобы не мешала мне писать, это единственное, что позволяет мне забыть о боли, кроме твоей великолепной фармакопеи, разумеется. Да, и пусть приносят кофе, когда прошу, уж больно строгие порядки в этой клинике.
Это точно, водишь пером и успокаиваешься, потому, наверное, и осталось столько писем от приговоренных к смерти. Меня даже развлекает выстраивать на бумаге такое, о чем подумаешь – и сразу комок в горле, не говоря уж о секреции слезных желез; в словах я вижу себя со стороны, могу вообразить что угодно, если только запишу тотчас, это вроде профессионального извращения, а может быть, мозги начинают размягчаться. Я прерываюсь, только когда приходит Лилиана, с остальными я не очень-то любезен, они заботятся, чтобы я поменьше разговаривал, и я предоставляю им рассказывать, холодно ли на улице и победит ли Никсон Макговерна, не выпуская карандаша из рук, предоставляю им говорить, и даже Альфредо замечает и говорит, мол, продолжай, не обращай внимания – у него газета и он еще посидит. Но жена не заслуживает такого, ее я слушаю и улыбаюсь ей, и боль отступает, принимаю ее влажный поцелуй снова и снова, хотя с каждым днем устаю все больше, когда меня бреют, и, наверное, я колю тебе губы, бедная моя. Нужно сказать, что мужество Лилианы – главное мое утешение; увидеть себя уже мертвым в ее глазах – значит, лишиться последних сил, которых едва хватает, чтобы говорить с ней и отвечать иногда на поцелуи, чтобы писать, едва она уйдет и начнется рутина уколов и ласковеньких слов. Никто не решается заглянуть в мою тетрадь, я знаю, что могу сунуть ее под подушку или в тумбочку, такой уж у меня каприз, не надо ему мешать, раз сам доктор Рамос… конечно не надо, бедняжка отвлекается этим.
Значит, в понедельник или вторник. А местечко в склепе – в среду или четверг. В разгар лета на Чакарите – как в печке, и ребятам придется не сладко, вижу Пинчо в двубортном пиджаке с накладными плечами, которые так забавляют Акосту, но и сам Акоста, привыкший к курткам, вынужден томиться в костюме, при галстуке, чтобы проводить меня в последний путь, на это стоит посмотреть. И Фернан-дито, словом, вся троица, и еще, конечно, Рамос, до самого конца, и Альфредо – ведет под руки Лилиану и маму и плачет вместе с ними. И это искренне, я знаю, как они меня любят, как меня будет недоставать им; они пойдут не так, как мы ходили на похороны толстяка Тресы – компанейские обязанности, проведенный вместе отпуск,- лишь бы исполнить свой долг перед семьей да поскорей вернуться к жизни и все забыть. Конечно, у них будет зверский аппетит, особенно у Акосты, которого в жратве никто не одолеет; но все они скорбят и проклинают эту бессмыслицу – умирать молодым, в расцвете сил, потом – всем известная реакция, удовольствие вновь войти в метро или вновь сесть в машину, принять душ и поесть с аппетитом и угрызениями совести одновременно, ведь голод не исчезает от бессонных ночей, от запаха цветов у гроба, бесконечных сигарет и прогулок по тротуару, это вроде отыгрыша, всегда так бывает в эти минуты, и я никогда не отказывался, к чему лицемерить. Приятно вообразить, что Фернандито, Пинчо и Акоста отправятся вместе в паррилью *,
* Закусочная, где подается жареное на решетке мясо.
конечно же, они пойдут вместе, потому что так уже было после похорон толстяка Тресы, друзья должны еще побыть вместе, распить кувшин вина, съесть блюдо потрохов; черт возьми, я прямо вижу их: Фернандито первым отмочит шутку и закусит ее добрым куском колбасы, раскаиваясь, но уже поздно, Акоста покосится на него, но Пинчо не удержится от смеха, это выше его сил, и тогда Акоста, который вообще-то добряк, скажет себе, что незачем корчить святошу, и тоже посмеется перед тем, как закурить. И долго будут говорить обо мне, и вспомнят столько всего о жизни, что нас четверых соединяла, были, как водится, и пробелы, моменты, в которые мы не были вместе и которые возникнут вдруг в памяти Акосты или Пинчо, ведь столько лет, и ссоры, и интрижки, наша компания. Им будет трудно расстаться, потому что тогда-то и вернется к ним реальность, время расходиться по домам – последние, окончательные похороны. С Альфредо будет не так, и не потому, что он не из нашей компании, вовсе нет, но Альфредо должен позаботиться о Лилиане и маме, а этого ни Акоста, ни другие сделать не смогут, жизнь создает особые связи между друзьями, все бывали в нашем доме, но Альфредо – особый случай, всегда так хорошо при нем, всегда он рад задержаться, болтая с мамой о цветах и лекарствах, повести моего Почо в зоопарк или в цирк; готовый всем услужить холостяк – коробка пирожных и партия в карты, когда маме нездоровится, робкая и чистая симпатия к Лилиане – товарищ из товарищей, которому придется теперь жить эти два дня, скрывая слезы, он, возможно, отвезет Почо к себе на дачу и тотчас вернется, чтобы быть с мамой и Лилианой до последнего. В довершение всего ему придется быть мужчиной в доме и взять на себя все хлопоты, начиная с похоронного бюро, ведь это должно произойти как раз, когда мой старикан разъезжает по Мексике или Панаме, еще неизвестно, успеет ли бедняга приехать, чтобы терпеть полуденный зной на Чакарите, так что именно Альфредо поведет Лилиану – не думаю, что маме позволят пойти, – поведет Лилиану под руку, чувствуя, как сливается ее дрожь с его собственной, шепча ей все то, что я нашептывал жене толстяка Тресы, бесполезные и такие нужные слова – не утешение, и не пустая болтовня, и даже не святая ложь, просто ты здесь, и это уже много.