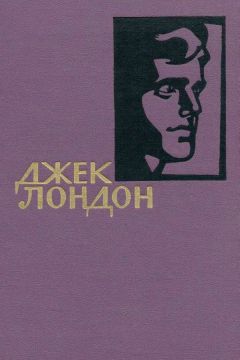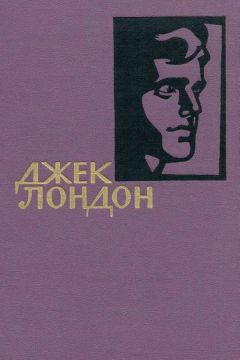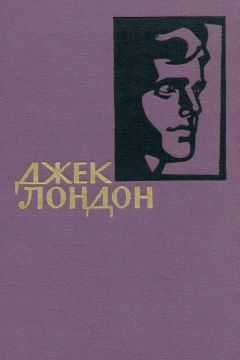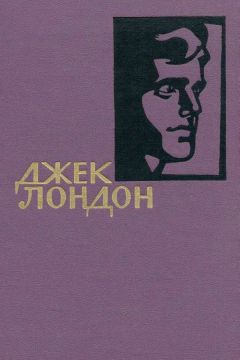Но сюрприз следовал за сюрпризом. Директор попросил Эдну представить его сестре, занимал девушек разговорами и всячески старался проявить любезность. Он даже предоставил Эдне отдельную уборную, возбудив тем жгучую зависть трех крикливых дам, в обществе которых она переодевалась в первый вечер. Эдна не могла прийти в себя от изумления, но встретившийся ей в коридоре Чарли Уэлш пролил свет на эту загадку.
— Здорово! — приветствовал он ее. — Вы, я вижу, в гору пошли. Царицей бала стали!
Эдна весело улыбнулась.
— Наш-то, — не иначе, как он думает, что вы репортерша. Я чуть не лопнул со смеху, глядя, каким ягненочком он перед вами прикидывается. Ну, а теперь скажите по совести, начистоту, вы не по этой, не по газетной части работаете?
— Я же рассказывала вам, как меня встретил редактор, — возразила Эдна. И, по совести, это была чистая правда.
Однако Любитель-Уникум с сомнением покачал головой.
— Мне-то, конечно, наплевать, — заявил он. — Но если вы в самом деле репортерша, тисните несколько строк обо мне, сами знаете, как это делается, для рекламки. А если и не репортерша, что ж, вы и так симпатичная девица. Но что вы не нашего поля ягода — это уж факт.
После выступления Эдны — на этот раз она исполнила свой номер с хладнокровием ветерана — директор возобновил атаку: наговорил ей кучу любезностей и, расплывшись в любезной улыбке, приступил к делу.
— Надеюсь, вы обойдетесь с нами не слишком сурово? — спросил он вкрадчиво. — Не обидите нас, верно ведь?
— Ой, что вы! Никогда не соглашусь опять выступить. Даже не уговаривайте, — отвечала Эдна с наигранным простодушием. — Я понимаю, что мой номер понравился, но и не мечтайте меня заполучить. Я, право же, не могу.
— Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, — в голосе директора прозвучали прежние грозные нотки.
— Нет, нет, ни за что, — упрямилась Эдна. — Эстрада — слишком большое напряжение для нервов, во всяком случае для моих нервов.
Явно озадаченный директор подозрительно посмотрел на девушку, но настаивать больше не стал.
Однако в понедельник утром, когда Эдна явилась к нему в контору получить деньги за свои два выступления, он в свою очередь ее озадачил.
— Вы, очевидно, меня не поняли, — нагло врал он. — Кажется, я действительно что-то говорил об оплате проезда. Это у нас практикуется, но за выступления мы любителям никогда не платим. Вместо живой, искрящейся струи получилось бы болото, мертвечина. Нет! Чарли Уэлш над вами просто подшутил. Ничего, он за свои выступления не получает. Платить любителям! Да это же курам на смех! Но вот, пожалуйста, пятьдесят центов. Сюда входит и стоимость проезда вашей сестры. И разрешите мне от имени администрации горячо вас поблагодарить за ваше ценное участие в наших любительских вечерах.
В этот же день Эдна выполнила данное Максу Ирвину обещание, вручив ему отпечатанный на машинке фельетон. Пробегая глазами рукопись, журналист то и дело кивал головой и не скупился на похвалы:
— Хорошо!.. То, что нужно!.. В самую точку!.. Психологически верно!.. Очень тонкая мысль!.. Уловили именно то, что требуется! Великолепно!.. Здесь удар не совсем попадает в цель, но сойдет… Вот это сильно!.. Очень ярко!.. Образно! Образно!.. Хорошо!.. Превосходно!
И, пробежав до конца последнюю страницу, сердечно протянул Эдне руку:
— Поздравляю, искренне поздравляю, дорогая мисс Уаймен. Признаюсь, вы превзошли все мои ожидания, хотя я в вас сразу уверовал. Вы журналистка, прирожденная журналистка. У вас есть настоящая хватка, и вы, конечно, далеко пойдете. «Интеллидженсер», без сомнения, примет и эту вашу рукопись и все дальнейшие. Они вынуждены будут вас взять уж хотя бы потому, что иначе за вас ухватятся другие газеты.
— Но как же так? — вдруг добавил он, сразу нахмурившись. — Почему вы не пишете, что получили плату за выступления, а ведь в этом соль всего фельетона. Я вас предупреждал, помните.
— Э, нет, это никуда не годится, — проговорил он и мрачно покачал головой, когда Эдна объяснила ему, как было дело. — Так или иначе, а деньги надо непременно у них выцарапать. Постойте-ка. Дайте подумать…
— Ради бога, не утруждайте себя, мистер Ирвин, я и так доставила вам достаточно беспокойства, — сказала Эдна. — Разрешите мне только от вас позвонить — попытаюсь-ка я еще раз взять за жабры мистера Эрнеста Саймса.
Журналист уступил Эдне место за письменным столом, и она сняла трубку.
— Чарли Уэлш захворал, — сказала она, когда ее соединили. — Что? Нет! Я не Чарли Уэлш. Чарли Уэлш захворал, и его сестра просила узнать, можно ли ей приехать сегодня вечером получить за него деньги?
— Скажите сестре Чарли Уэлша, что Чарли Уэлш сам был здесь сегодня утром и получил свои деньги, — послышался хорошо знакомый наглый голос директора.
— Чудесно, — продолжала Эдна. — А теперь Нэн Билейн хочет знать, может ли она с сестрой приехать сегодня вечером и получить причитающиеся Нэн Билейн деньги.
— Что он ответил? Что он ответил? — взволнованно вскричал Макс Ирвин, когда Эдна повесила трубку.
— Что Нэн Билейн стала ему поперек горла и что пусть она приезжает со своей сестрицей за деньгами и больше никогда не показывается на Кругу.
— Да, вот что, — сказал Макс Ирвин, как и в прошлое посещение, прерывая слова ее благодарности. — Теперь, когда вы показали, на что способны, я почту, гм… почту за честь сам написать вам рекомендательное письмо в редакцию «Интеллидженсера».
Уэйд Этшелер мертв — он покончил жизнь самоубийством. Сказать, что его смерть явилась полной неожиданностью для небольшого избранного круга его знакомых, — значило бы сказать неправду; и все же никому из нас, его близких друзей, никогда не приходила в голову такая мысль. Правильнее было бы сказать, что в глубине нашего сознания гнездились какие-то смутные опасения, и именно это как-то подготовило нас. До того, как он покончил с собой, нам и в голову не приходило, что такое может случиться, но когда мы узнали, что он мертв, нам стало казаться, что мы знали и предвидели это и раньше.
Анализируя наши прежние ощущения, мы могли легко объяснить их его озабоченностью. Я намеренно говорю об «озабоченности». Молодой, красивый, обеспеченный, Уэйд Этшелер был правой рукой Ибена Хэйла, крупного магната в области городского транспорта, и у него не было никаких причин жаловаться на судьбу. И все же мы замечали, как его гладкий лоб бороздили глубокие морщины, словно Уэйда Этшелера грызли заботы или снедала тоска. Мы видели, как поредели и посеребрились его густые черные волосы, словно зеленые хлеба под палящим солнцем в засушливое лето. Разве можно забыть, как, предаваясь веселым развлечениям, к которым в последние дни его тянуло все больше и больше, он вдруг впадал в рассеянность и дурное настроение? И бывало, в самом разгаре беззаботного веселья вдруг, без всякой видимой причины, глаза его тускнели, а брови хмурились, словно он со стиснутыми руками и лицом, искаженным судорогой душевной боли, стоял на краю бездны, грозящей ему неведомой опасностью.
Он никогда не говорил о своей тревоге, а мы считали нескромным расспрашивать его. Но все равно, если бы даже мы заговорили об этом и он рассказал нам все, наша помощь оказалась бы бесполезной. Когда же умер Ибен Хэйл, личным секретарем — более того, почти приемным сыном и полноправным компаньоном которого был Уэйд Этшелер, то он и вовсе перестал появляться в нашей компании. И совсем не потому, как я узнал теперь, что ему претило наше общество, причина заключалась в его тревоге, которая была так велика, что он не мог уже принимать участие в нашем веселом времяпрепровождении и пытаться забыться. В то время мы многого не могли понять, тем более что, когда было утвержден но завещание Ибена Хэйла, стало известно, что Этшелер является единственным наследником многомиллионного состояния своего патрона, и завещание недвусмысленно предусматривало немедленную передачу наследства без всяких ограничений и оговорок. Ни одной акции, ни одного цента наличными не было отписано родственникам покойного. Что же касается его семьи, то в одном из пунктов этого поразительного завещания говорилось, что Уэйд Этшелер должен выдавать жене Ибена Хэйла, его сыновьям и дочерям денежные суммы по своему усмотрению, когда сочтет это нужным. Если бы в семье покойного были какие-нибудь неурядицы или если бы его сыновья были мотами или несерьезными людьми, тогда бы эта необычная мера имела хоть какой-нибудь смысл; но семейное счастье Ибена Хэйла было известно всем, а таких порядочных, разумных и здоровых сыновей и дочерей надо было еще поискать. Ну, а о жене его и говорить не приходится: хорошие знакомые ласково называли ее «Матерью Гракхов». Естественно, что столь непонятное завещание вызвало многочисленные толки; ожидали, что оно будет опротестовано, но протеста не последовало, и все были разочарованы.