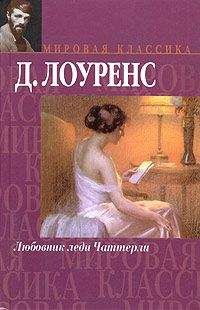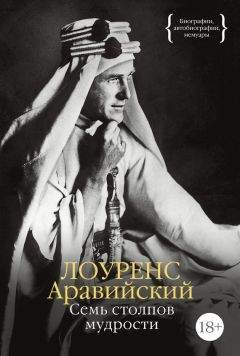— Но развитие может идти не только путем Советов. Много и других путей. Ведь большевики, по сути, глупы.
— Верно. Но порой быть дураком не так уж глупо. Если хочешь добиться своего. Я лично считаю большевизм — движением полоумных, равно и общественная жизнь на Западе представляется мне полоумной. Даже более того: наша хваленая «жизнь разума» и та, кажется мне, от скудоумия. Мы — выродки, идиоты. Лишены человеческих чувств. Чем мы не большевики? Только называем себя по-другому. Мы мним себя богами, всесильными и, всемогущими. Точно так же и большевики. Нужно вернуться к человеческому естеству, вспомнить, зачем нам сердце, половой член, — только тогда мы перестанем уподоблять себя богам и, соответственно, большевикам, что, по сути, одно и то же: добродетельны они лишь на вид.
Наступило молчание. Чувствовалось, что присутствующие не согласны. И тут снова прозвучал вопрос Берри:
— Но уж в любовь-то вы верите, Томми?
— Ах, ты мой милый! — усмехнулся Томми. — Нет, мой ангел, нет, нет и еще раз нет! Любовь в наш век — еще одна забава полоумных. Вихлявые мальчишки спят с, грубыми девками, у которых бедра под стать мальчишечьим. Посмотришь — как два жеребчика в упряжке. Ты такую любовь имеешь в виду? Или любовную связь, что непременно приведет к успеху? Или, может, унылый брак двух собственников? Нет, в такую любовь я не поверю ни за что!
— Но во что-то вы же верите?
— Я-то? Ну, разумом я верю в доброе сердце, в задорный пенис, в живой ум, в мужество, если его достанет сказать при даме неприличное слово.
— Во всем этом вам не отказать, — согласился Берри.
Томми Дьюкс захохотал во все горло.
— Ах, ты ангел мой! Если бы! Увы, в сердце моем не больше доброты, чем в картофелине, пенис совсем понурился, и я скорее дам его отрезать, чем выругаюсь при матушке или тетушке; они у меня истинные дамы. Да и ума у меня маловато, мой разум — мое вечное узилище! А хотелось бы обладать умом. Встрепенулся б тогда, ожил бы каждой клеточкой, каждым органом. Тогда б мой пенис приосанился бы, поприветствовал бы меня, как всякого умного человека. Ренуар, по его же признанию, рисовал картины пенисом… и как! Вот бы и мой на что толковое употребить! Господи! Какая же пытка работать только языком! Мука адская! Это все идет от Сократа.
— Но красивые женщины на белом свете еще не перевелись, — подняла голову и, наконец, заговорила Конни.
Мужчины оскорбление промолчали. Хозяйке дома не полагалось вслушиваться в беседу. Им претила самая мысль, что Конни могла следить за ходом разговора.
— Нет, и думать нечего! Я просто не могу соответствовать всем колебаниям женской натуры. Нет такой женщины, которая будила бы во мне желание. Это желание мне нужно вызывать в себе силой… Господи! Нет никакой надежды. Я буду жить, по-прежнему руководствуясь голым разумом. И честно в этом признаюсь. Я счастлив, разговаривая с женщинами. Но это просто разговор, непорочный, без каких-либо задних мыслей! Не сулящий никаких надежд. Что ты на это скажешь, мой птенчик? — обратился он к Берри.
— Если остаться непорочным, жизнь намного проще, — ответил тот.
— Да, жизнь вообще предельно проста!
Морозным утром, под тусклым февральским солнцем Клиффорд и Конни отправились парком на прогулку в лес. Клиффорд ехал на кресле с моторчиком, Конни шла рядом.
В холодном воздухе все же чувствовался запах серы, но и Клиффорд и Конни давно привыкли к нему. Горизонт скрывала молочно-серая от копоти морозная дымка, а над ней — лоскуток голубого неба. Будто Клиффорд и Конни оказались под смрадным колпаком, откуда и не выбраться. И вся жизнь — страшный, дикий сон под этим колпаком.
Коротко взблеивали овцы, щипля жесткую, жухлую траву в парке, там и сям во впадинках серебрился иней. Через парк к лесу красной лентой вилась тропинка, выложенная наново (по приказу Клиффорда) мелким гравием с шахты. Выгорая, выделяя серу, порода делалась красноватой, под цвет креветки, в дождливый день темнела — более под стать крабьему панцирю. Сейчас тропинка была нежно-розовой с голубовато-серебристой оторочкой из инея. Конни так нравилось хрустеть мелким красным гравием. Нет худа без добра: и шахта дарила маленькую радость.
Клиффорд, осторожно правя креслом, съехал с пригорка, на котором стояла усадьба. Конни шла следом, придерживая кресло за спинку. Невдалеке раскинулся лес: спереди плотной кучкой выстроились каштаны, за ними, догорая последним багрянцем, высились дубы. На опушке прыгали, вдруг застывая, как вкопанные, зайцы. Снялась и устремилась к голубому небесному лоскутку большая стая грачей. Конни открыла калитку, выводившую из парка в лес, и Клиффорд медленно выехал на широкую аллею, взбирающуюся на пригорок меж ровно и густо растущих каштанов. Некогда лес был дремуч, в нем охотился сам Робин Гуд, некогда и нынешняя аллея была основной дорогой меж западными и восточными графствами. Сейчас же по аллее только ездить верхом да оглядывать частные владения, а дорога забирала на север, огибая лес.
Лес стоял недвижим. Палые листья иней прилепил к холодной земле. Вот вскрикнула сойка, разом вспорхнули какие-то мелкие птахи. Но поохотиться уже не удастся — даже фазанов нет. В войну уничтожили всю живность, некому постоять за господский лес. Лишь недавно Клиффорд нанял егеря-лесничего.
Клиффорд любил лес, любил старые дубы. Скольким поколениям Чаттерли служили они. Их нужно охранять. Ему хотелось уберечь лесок от мирской скверны.
Медленно катило кресло вверх по Уклону, вздрагивая, когда под колесо попадал ком мерзлой земли. Неожиданно слева открылась полянка, — кроме приникших к земле спутанных кустиков папоротника, нескольких чахлых побегов, гололобых пней, уцепившихся мертвыми корнями, — ничего нет. Чернели лишь кострища: дровосеки жгли валежник и мусор.
Во время войны сэр Джеффри определил этот участок под вырубку. И пригорок справа от аллеи облысел и глядел очень сиротливо. Некогда на макушке его красовались дубы. Сейчас — проплешина. Оттуда виднелась рудничная узкоколейка за лесом, новые шахты у Отвальной. Конни смотрела как зачарованная. Вот как вторгается мирская суета в покой и уединение леса. Но Клиффорду ничего не сказала.
Плешивый пригорок приводил Клиффорда в необъяснимую ярость. Он прошел войну, повидал Всякое, но не ярился так, как при виде этого голого холма. И тут же велел его засадить. А в сердце засела острая неприязнь к отцу.
Неспешно Клиффорд взбирался на своей каталке все выше, лицо у него напряглось и застыло. Одолев кручу, остановился, спуск долог и ухабист, нужно отдохнуть. Засмотрелся на аллею внизу, четко обозначенную меж побурелыми деревьями. Вон там ее окружили заросли папоротника, дальше — красавцы дубы. У подножья холма дорога заворачивала и терялась из виду. Но сколь изящен и красив этот поворот: вот-вот из-за него появятся рыцари и изящные амазонки.
— По-моему, вот это и есть подлинное сердце Англии, — сказал Клиффорд жене, оглядывая лес в скупых лучах февральского солнца.
— Ты так думаешь? — спросила Конни и села на придорожный пенек, не жалея голубого шерстяного платья.
— Уверен! Это и есть сердце старой Англии, и я его сберегу в целости-сохранности.
— Правильно! — кивнула Конни. С шахты у Отвальной прогудела сирена, — значит, уже одиннадцать часов. Клиффорд вообще не обратил внимания — привык.
— Я хочу, чтоб этот лес стоял нетронутым. Чтоб ничья нога не оскверняла его, — продолжал он.
И впрямь: лес будил воображение. Что-то таинственное и первозданное таил он. Конечно, он пострадал: сэр Джеффри вырубил немало деревьев во время войны. Сейчас лес стоял тихий, воздев к небу бесчисленные извилистые ветви. Серые могучие стволы попирали бурно разросшийся папоротник. Покойно и уютно птицам порхать с кроны на крону. А когда-то водились здесь и олени, бродили по чащобе лучники, а по дороге ездили на осликах монахи. И все это лес помнит по сей день.
На светлых прямых волосах Клиффорда играло неяркое солнце, на полном румяном лице — печать непроницаемости.
— Здесь мне особо горько. Так недостает сына, — заговорил он.
— Но ведь лес много старше рода Чаттерли.
— Но сохранили его мы. Не будь нас, не было бы уже и леса. Уже сегодня бы ни деревца не осталось. И так от былого леса — рожки да ножки. Но ведь нужно сохранить хоть что-то от Англии былых времен.
— А нужно ли? Ну, сохранишь ты старое, а оно новому помешает. Хотя я понимаю тебя — видеть это грустно.
— Если не сохраним ничего от прежней Англии, новой не будет вообще! И сохранять это нам, тем, кто владеет землей, лесами, тем, кому на это не наплевать!
Разговор прервался на грустной ноте.
— Что ж, сохранишь на несколько лет, — вздохнула Конни.
— Пусть на несколько лет! Большее нам не по силам. Но с той поры, как мы здесь поселились, я уверен, каждый из нашего рода внес свою малую лепту. Можно противиться условностям, но должно чтить традицию.