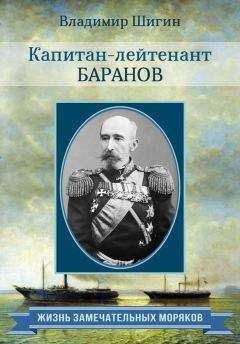Перед тем, как зайти в Христину избу, Андрей Леонтьевич пошел до ветру. Он нашел нужник за перевалом сена и цыкнул: около сена, урча и приседая на полу, сверкали зелеными глазами два кота. Андрей Леонтьевич сапогом пнул в сено, нога наткнулась на что-то твердое. Нагнувшись, он увидел большое розовое бедро лося…
В избе лесник молча взял ружье и сумку:
— Ну, Христофор, спасибо за ночлег. Пойду я…
За деревней, хромая и махая руками, Андрея Леонтьевича догнал Христя:
— Левонтьевич! — запыхавшись, проговорил он. — Зря мы Копыта-то упекли, не виноват он, моя вина… Зря упекли… Скажи там — я петлю ставил…
— Ладно… Молчи уж… Чего там. Копыта отпустят, не маши руками-то… Чего уж тут…
— Моя, Левонтьевич, вина…
Не слушая Христю, лесник быстро, с опущенной головой, пошел прочь. Теперь уже не стеклянный глаз лося виделся Андрею Леонтьевичу, а плачущие Христины ребятишки, которые все время, пока ели картошку, не прекращали свою «оркестру».
Я какую вам вину сделала?
В чем гораздо провинилася? Иль амбары хлеба выела, Сундуки платья износила?
Иль ключами обтерялася. Золотой казной обсчиталася?
Из старинной народной песни
В июне Ивана Даниловича Гриненко послали на Север покупать лес. Когда раздвинулись каленые одесские горизонты и вагон завыстукивал на перегонах черноземья, у Гриненко неожиданно затихла сердечная канитель. Еще тише и умиротворенней стало на душе по дороге от Москвы к Вологде. Словно от прохлады зеленого северного лета потухли угольки непрерывных. забот, уступая место теплу тихих и грустных раздумий.
Раздумья же и легкое волнение были вызваны не только дорожной праздностью. Давно когда-то, в войну, Гриненко восемнадцатилетним юнцом целое лето служил в северных местах, косил для армии сено, и теперь всплывали в памяти картины его солдатской юности.
Утром, в конце белой ночи, пахнущей вчерашним дождем и черемухами, он сошел с московского поезда и пересел на пароход. Старинный колесник с двумя холодными и чистыми палубами, с белоснежной рубкой, с хлопочущим в синем воздухе вымпелом долго стоял у пристани, с большим креном налево, он, как старый и сильный хлебороб, у которого одно плечо выше другого, отдыхал на широкой воде, будто впаянный в ее светлую столешницу. Только где-то в самом нутре ровно посапывала машина. Мальчишка-матрос цибаркой на веревке черпал из реки воду и поливал нижнюю палубу. Подняв ведро, он поправлял фуражку и кричал девчонке-кассирше, стоявшей на дебаркадере:
— Эй, куроносая!
«Куроносая» притворялась, что не слышит, и Г риненко с улыбкой старшего наблюдал за ее намеренно-равнодушной беседой с теткой-уборщицей. Вот ни свет ни заря на велосипеде подкатил к пристани босоногий подросток, другой же удил рыбу с бона; прошла по берегу баба, поглядела на пароход и, не торопясь, пошла дальше. Пассажиров почти не было, а может, они еще спали в каютах. Вдруг из-под карниза дебаркадера на всю реку громко зашипел репродуктор, потом неторопливые позывные рассыпались над водой. Репродуктор, старомодный, в виде ящичка, был весь, как пчелиными сотами, облеплен гнездами ласточек. Касатки садились прямо на него, их ничуть не смущали раскаты гимна, и это сочетание птиц и музыки позабавило Ивана Даниловича. Он подумал о том, как весело им живется, этим ласточкам, в соседстве с музыкой и новостями всего мира.
В это время пароход гукнул, и мальчишка-матрос ловко и сноровисто размотал канат, кинул его на палубу, прыгнул сам, успев, однако, задеть кассиршу. Девушка заругалась и замахнулась на пароход теткиной шваброй.
Гриненко по трапчику вышел на пустую верхнюю палубу: спать не хотелось. Кругом было молочно-синее небо, голубая вода и зеленые берега с редкими деревнями. Он сел на реечную скамейку на носу парохода, где не жаркий и не холодный ветер хлопал вымпелом. Тот же ветер доносил с берегов запах черемух, петушиные крики, точь-в-точь как дома, в колхозе в Одесской области. Только там нет такого черемухового запаха и вишни давно отцвели, давно прошло ощущение весны. А здесь оно вернулось к Ивану Даниловичу, и ему опять вспомнилась жена Маруся. Ах, Маруся, Маруся!.. Вспомнилось, как во время весеннего сева до слез обидел ее, обидел нарочно; вспомнил, как быстро забыла она эту незаслуженную обиду. У них с Марусей не было детей. Иван Данилович иногда тосковал от этого, хотя и любил ее, как раньше. Весной, подвыпив однажды, он увидел в зеркале свои седые волосы, а в окошке соседского хлопчика, сказал жене злые слова. Она тихо расплакалась, и ему было приятно, что она плачет. Эх, Маруся, Маруся!.. Уезжая в командировку, он равнодушно, по обязанности, обнял ее, сухо чмокнул в смуглый висок. И вот теперь, в дороге, все думал о ней, стараясь жалеть ее больше, чем себя, но у него ничего не получалось.
Пароход, приближаясь к излуке, опять загудел. Навстречу буксирчику капитан махал из рубки флагом; берега здесь как будто сдвинулись. Излука огибала высокий холм с белой головастой церквухой. Судно миновало холм, река выпрямилась; навстречу медленно прошел длиннющий плот с шалашами плотогонов. Костры на плоту, разложенные ночью на дерновых подкладках, сейчас еле дымились, плотогоны отсыпались в шалашах, пользуясь тихим фарватером, и ноги их босые торчали из шалашей.
Иван Данилович долго сидел на палубе. Потом спустился в буфет и выпил пива. Оно было резким и холодным. На нижней палубе, на рундучке, уже играли в «козла», мальчишка-матрос чинил тельняшку. За бортом, чистая, как слеза, плескалась вода.
«Ах, Маруся, Маруся!..» То ли от пива, то ли от недоспанной ночи Гриненко задремал на диванчике и сквозь шум пароходного двигателя слушал призрачный плеск северной реки, крики баб-пассажирок, сипловатый, словно похмельный, голос гудка.
Река была длинна, солнечна и немного печальна своей тишиной. Богатая излуками, она похожа была на самую жизнь, долгую и никогда не повторяющую прошлое. Иван Данилович заснул с ощущением счастья и той же легкой неосознанной грусти.
* * *
Но откуда же было прийти, отчего затеплиться этой грусти? Проснувшись, он долго лежал не вставая. Глядел на матовый плафон и нарочно не глядел на часы, чтобы продлить то тревожно-приятное состояние, когда не знаешь, который час, утро на дворе или вечер. Во сне к Ивану Даниловичу приходили так же смещенные по времени образы прошлого. Их очередь путалась еще и сейчас, когда он уже не спал; и ему так мучительно хотелось, чтобы они подольше не вставали на свои места, не отодвинулись, не растаяли.
«Ах, Маруся, Маруся!..» Но ведь ему снилась не она, не Маруся — вернее, она, только образ ее был объемнее, шире, потому что нес в себе черты еще другой женщины, не Маруси. Этот образ был так явствен, такой горечью и волнением веяло от него еще и после пробуждения, что Гриненко несколько минут не мог вспомнить действительную Марусю, жену, такую, какая она есть. Наконец он вспомнил жену такой, какая она была в яви, отделилось от нее привнесенное фантазией сна, и тут Ивана Даниловича ослепило, обожгло сладкой тоской. Стояла в глазах не Маруся, а та, другая, давнишняя — самая первая. И теперь Иван Данилович уже знал, чем разбужена в нем эта томительная неосознанная грусть. А разбужена она была еще утром, на пристани, когда он услышал горько-сладкий запах черемух и холодящий запах речной воды — те запахи, что плавали над покосами дальним военным летом здесь, на Севере…
Гриненко умылся и тихо, с напряженными скулами, вышел на палубу. Он ступал осторожно, будто боялся растерять драгоценные блестки невозвратимого счастья, что так ясно возродил сон.
Он не узнал парохода. Солнце катилось теперь с другого борта, и казалось, что пароход идет в обратную сторону. Везде было людно: женщины, мужики, детишки сидели на рундуках, на приступках, на мешках и на чемоданах. Где-то плакал ребенок, кто-то запел, играла гармошка; опять гудел пароход, опять наплывали с боков зеленые берега, и упругий вал катил и катил вослед пароходу.
В буфете, еле протолкавшись к стойке, Гриненко взял стакан вишневого, пахнущего краской вермута, заказал поесть, сел на освободившееся местечко. За столиком сидел подвыпивший здоровенный дядька с типично северным обличьем.
— Съел, понимаешь, суп, все равно что возле себя положил, — весело сказал он. — Дай, думаю, хоть красного…
У дядьки серый хлопчатобумажный костюм надет поверх новой синей рубахи, сапоги пахнут дегтем, ясные глаза глядят сразу умно и наивно, а губы все время складываются в улыбку, и дырчатый, картошиной, нос от этого весело морщится.
— Что, далеко едем? — спросил Иван Данилович.
— Да какое далеко, и всего-то две пристани, а уж больно тоскливо без дела. А ваш путь в какие места, не знаю имени-отчества?