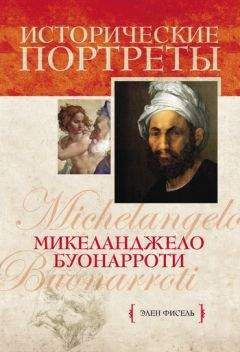— Я бы сам этого хотел, — сказал барон, захваченный врасплох, — но можно мне взять с собой девочку?
— Гектор, откажись от нее! Сделай это ради твоей Аделины, которая еще никогда не просила у тебя ни единой жертвы! Обещаю тебе, что я дам приданое этому ребенку, выучу ее, выдам замуж. Пусть хоть одна из тех, кто приносит тебе счастье, будет счастлива и не погрязнет в разврате!
— Так, значит, это ты хотела меня женить? — сказал барон с улыбкой. — Побудь минутку здесь, а я пойду наверх, переоденусь; там у меня в чемодане есть приличная одежда...
Оставшись одна, Аделина снова оглядела эту убогую контору и заплакала.
«Он так нуждался, — думала она, — а мы жили в богатстве!.. Бедный, бедный! Как он наказан, а ведь он был само изящество!»
Печник пришел проститься со своей благодетельницей, и Аделина послала его за извозчичьей каретой. Когда он вернулся, баронесса попросила его приютить у себя на время Аталу Джудичи и увести ее к себе немедленно.
— Скажите ей, — прибавила баронесса, — что если она будет слушаться наставлений священника из церкви святой Магдалины, то в день своего первого причастия она получит от меня в приданое тридцать тысяч франков, и я найду ей хорошего мужа, какого-нибудь достойного молодого человека.
— Моего старшего сына, сударыня! Ему двадцать два года, и он обожает эту девочку!
В это время барон спустился вниз; глаза у него были влажные.
— Ты велишь мне покинуть единственное существо, которое любило меня, пожалуй, не меньше, чем ты, — шепнул он на ухо жене. — Девочка заливается слезами, я не могу бросить ее так...
— Будь покоен, Гектор! Она будет жить в честной семье, и я отвечаю за ее нравственность!
— Ну что ж, в таком случае я могу идти с тобой, — сказал барон, направляясь следом за женой к экипажу.
Гектор, опять ставший бароном д'Эрви, облачился в синие суконные панталоны и сюртук из того же сукна, надел белый жилет, черный галстук и перчатки. Когда баронесса уже сидела в карете, Атала проскользнула туда, как змейка.
— Ах, сударыня, — сказала она, — позвольте мне ехать с вами... Право, я буду умницей, буду послушной, буду делать все, что вы прикажете! Только не разлучайте меня с папашей Видером, с моим благодетелем, он делал мне столько подарков. Меня тут будут бить!..
— Полно, Атала, — сказал барон, — эта дама моя жена, и нам с тобой нужно расстаться...
— Она? Такая старуха! — наивно воскликнула девочка— А дрожит-то, что твой лист! А головой-то... все вот так, вот так!..
И она передразнила баронессу. Печник, прибежавший следом за юной Джудичи, подошел к дверце кареты.
— Уведите ее, — велела баронесса.
Печник взял Аталу на руки и унес к себе домой.
— Благодарю тебя за эту жертву, мой друг, — сказала, сияя от радости, Аделина, взяв руку барона и сжимая ее. — Как же ты изменился! Как ты, должно быть, настрадался! Какой сюрприз для твоей дочери, для сына!
Аделина говорила о тысяче вещей сразу, как говорят любовники, встретившись после долгой разлуки. Через десять минут барон со своей супругой прибыли на улицу Людовика Четырнадцатого, а там Аделину ожидала следующая записка:
«Баронесса!
Барон д'Эрви жил целый месяц на улице Шарон под фамилией Тогрек — анаграмма имени Гектора. Теперь он обосновался в Солнечном проезде, под именем Видер. Он выдает себя за эльзасца, занимается перепиской и живет с молоденькой девушкой по имени Атала Джудичи. Будьте осторожны, баронесса, ибо барона энергично разыскивают, не знаю, с какой целью.
Как видите, комедиантка сдержала свое слово, баронесса!
Ваша покорная слуга
Ж. М.»
Возвращение барона вызвало такое семейное ликование, что Гектор невольно настроился на общий лад. Он забыл юную Аталу Джудичи, ибо излишества и страсти развили в нем чисто детское непостоянство. И только перемена, происшедшая за это время в наружности барона, омрачала радость его близких. Он покинул своих детей еще вполне крепким человеком, а возвратился чуть ли не столетним дряхлым стариком, разбитым, согбенным, с помятой физиономией. Великолепный обед, устроенный Селестиной, напомнил старику обеды Жозефы, и он был ошеломлен пышностью собственного дома.
— Вы празднуете возвращение блудного отца, — шепнул он Аделине.
— Тс-с!.. Все забыто, — отвечала она.
— А Лизбета? — спросил барон, не видя за столом старой девы.
— Увы, — отвечала Гортензия, — она слегла и едва ли встанет. Скоро мы потеряем ее. Она просит, чтобы ты навестил ее после обеда.
На другое утро с восходом солнца швейцар сообщил Юло-сыну, что солдаты муниципальной гвардии оцепили дом. Полиция разыскивала барона Юло. Судебный пристав, которого сопровождала привратница, предъявив адвокату исполнительный лист, спросил: угодно ли ему заплатить за отца. Дело шло о векселях на десять тысяч франков, выданных на имя некоего ростовщика, по имени Самсон, который, вероятно, ссудил барону не более двух-трех тысяч франков. Юло-сын попросил пристава отослать своих людей и заплатил по векселям.
«Хорошо, если этим все окончится!» — подумал озабоченный адвокат.
Лизбета, и без того огорченная счастьем, выпавшим на долю семьи Юло, не в силах была вынести этого радостного события. Состояние ее здоровья настолько ухудшилось, что, по мнению Бьяншона, ей осталось жить не больше недели; она пала, потерпев поражение как раз в то время, когда долгая борьба, принесшая ей столько побед, уже подходила к концу. Своей тайной ненависти она не выдала даже в мучительной агонии скоротечной чахотки. Впрочем, она получила величайшее удовлетворение, видя у своей постели Аделину, Гортензию, Гектора, Викторена, Стейнбока, Селестину и их детей, оплакивающих ее как ангела-хранителя всей семьи. Здоровый режим, которого барон Юло лишен был почти три года, восстановил его силы, и он напоминал прежнего Гектора. Своим возрождением он так осчастливил Аделину, что даже ее нервный тик уменьшился. «Значит, она все-таки будет счастлива!» — сказала про себя Лизбета уже накануне своей смерти, заметив, что барон с каким-то благоговением относится к жене, узнав о ее страданиях от Гортензии и Викторена. Бессильная злоба ускорила конец кузины Бетты; за ее гробом, горько оплакивая покойную, следовала вся семья.
Барон и баронесса Юло, достигнув возраста, приносящего полный покой, предоставили графу и графине Стейнбок великолепные апартаменты в первом этаже, а сами перешли во второй этаж. Барон, заботами своего сына, получил в начале 1845 года место на железной дороге с окладом в шесть тысяч франков, что вместе с пенсией и капиталом, завещанным ему г-жой Кревель, составляло двадцать тысяч франков годового дохода. А так как Гортензия за три года ссоры с мужем добилась раздела имущества, Викторен, не колеблясь, положил в банк на имя сестры двести тысяч франков, переданные ему князем Виссембургским. Венцеслав, оказавшись мужем богатой женщины, не помышлял уже ни о каких изменах; но он шатался без дела, не имея воли создать даже самое незначительное произведение искусства. В качестве художника in partibus[119] он пользовался большим успехом в гостиных, и многие любители-скульпторы обращались к нему за советом; в конце концов он стал критиком, как все пустоцветы, обещавшие при первых шагах слишком много. Итак, каждая из этих супружеских пар пользовалась своим собственным состоянием, хотя все они жили одной семьей. Умудренная пережитыми несчастьями, баронесса предоставила сыну управлять делами и, таким образом, ограничила личные траты барона его жалованьем, надеясь, что скромный доход не позволит ему повторять былые ошибки. Но, к счастью, барон, по-видимому, совсем отказался от прекрасного пола, на что ни Аделина, ни сын даже не рассчитывали. Он явно остепенился, и его спокойствие, которое относили на счет его возраста, настолько рассеяло опасения семьи, что все близкие безмятежно наслаждались приятным обществом обаятельного барона д'Эрви. Он был весьма внимателен к жене и детям, сопровождал их в театр, в свет, где опять стал появляться, а на приемах, в гостиной своего сына, очаровывал всех изысканной любезностью. Словом, вновь обретенный блудный отец доставлял великое удовольствие своей семье. Это был приятный старик, сильно одряхлевший, но все еще остроумный и сохранивший от своих слабостей только то, что служило к его украшению в обществе. В доме воцарилось полное благополучие. Дети и баронесса превозносили до небес отца семейства, забыв о гибели двух дядей! Жизнь не обходится без горестей!
Супруга Викторена, которая благодаря урокам Лизбеты с большим искусством вела хозяйство, решила взять повара. За поваром последовала судомойка. В наше время судомойки стали необыкновенно честолюбивы, они становятся кухарками, как только выучатся заправлять соуса. Поэтому судомоек приходилось менять очень часто. В начале декабря 1845 года Селестина взяла на должность судомойки толстую нормандку из Изиньи, коренастую, с короткой талией, с толстыми, красными руками, с вульгарной физиономией, глупую, как поздравительный стишок. Она насилу согласилась расстаться с классическим коленкоровым чепцом, какие носят все девушки в Нижней Нормандии. Девица эта была полногруда, как кормилица, и ее ситцевый лиф, казалось, вот-вот лопнет. Красная, обветренная ее физиономия была как будто высечена из камня. Естественно, что никто не обратил никакого внимания на появление в доме новой судомойки, которую звали Агатой, — такие разбитные девицы не в диковинку в Париже. Прелести Агаты весьма мало привлекали повара, тем более что она была груба на язык, как и полагается бывшей служанке постоялого двора для возчиков, и потому она не только не сумела пленить своего шефа и перенять от него тонкости поварского искусства, но возбудила лишь его презрение. Повар ухаживал за Луизой, горничной графини Стейнбок. Для нормандки наступили черные дни; ее вечно куда-то посылали под разными предлогами — и как раз в то самое время, когда повар заканчивал какое-нибудь блюдо или приготовлял соус.