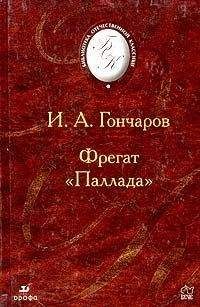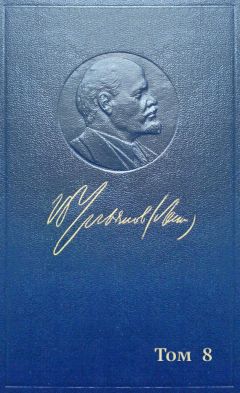"Однако ж час, – сказал барон, – пора домой; мне завтракать (он жил в отели), вам обедать". Мы пошли не прежней дорогой, а по каналу и повернули в первую длинную и довольно узкую улицу, которая вела прямо к трактиру. На ней тоже купеческие домы, с высокими заборами и садиками, тоже бежали вприпрыжку носильщики с ношами. Мы пришли еще рано; наши не все собрались: кто пошел по делам службы, кто фланировать, другие хотели пробраться в китайский лагерь.
Чрез час по всему дому раздался звук гонга: это повестка готовиться идти в столовую. Чрез полчаса мы сошли к столу, около которого суетились слуги, всё китайцы. Особенно весело было смотреть на мальчишек. На их маленьких лицах, с немного заплывшими глазками, выгнутым татарским лбом и висками, было много сметливости и плутовства; они живо бегали, меняли тарелки, подавали хлеб, воду и еще коверкали и без того исковерканный английский язык. Между прочим, мы увидали тут темно-коричневое лицо, в белой чалме, и с зубами еще белее. Мне что-то лицо показалось знакомо, да и он глядел на нас с приветливой улыбкой. Я спросил его, кто он, откуда. "Madrasman, -отвечал он, – я вас знаю, я видел вас в Сингапуре". – "Как же ты сюда попал?" – "Так, приехал служить". – "Что ж там делал, чем был?" – "Купец". – "О, лжешь, – думал я, – хвастаешь, а еще полудикий сын природы!" Я сейчас же вспомнил его: он там ездил с маленькой каретой по городу и однажды целую улицу прошел рядом со мною, прося запомнить нумер его кареты и не брать другой. А здесь он был буфетчиком, раздавал гостям кушанья, китайским мальчишкам – щелчки.
Второй обед был полнее первого. Тут кроме супа была вареная баранина и жареная баранина, вареная говядина и жареная говядина, вареные куры и жареные куры, fowl, потом гусь, ветчина, зелень. Это только первая перемена. Вторая и последняя состояла из дичи и пирожного. И то и другое подается вместе, мне кажется, между прочим, с тою целью, чтоб гости разделились на партии, одни за пирожное, другие за жаркое. Пирожное то же самое, что я ел в Лондоне, в Портсмуте и на мысе Доброй Надежды: applepie, сладкая яичница и пудинг с коринкой.
После обеда пришел барон Крюднер, и я же повел его показывать ему город и окрестности. Мы вышли на набережную Вусуна и пошли налево, мимо великолепного дома английского консула, потом португальского, датского и т. д. По дороге встречались, с мерным криком "а-а! а-а!", носильщики с чаем и щедро сыпали его по улице. Тут матросы с французских судов играли в пристенок: красивый, рослый и хорошо одетый народ. Мы подошли к впадающей в Вусун речке и к перевозу. Множество возвращающегося с работы простого народа толпилось на пристани, ожидая очереди попасть на паром, перевозивший на другую сторону, где первая кидалась в глаза куча навозу, грязный берег, две-три грязные хижины, два-три тощие дерева и за всем этим – вспаханные поля.
Мимо плетней, огородов, чрез поля, поросшие кустарниками хлопчатой бумаги и засеянные разным хлебом, выбрались мы сначала в деревушку, ближайшую к городу. Хижины из бамбука, без окошек, с одними дверями, лепились друг к другу. По деревне извивалась грязная канавка, стояли кадки с навозом для удобрения полей. Некуда было деться от запаха; мы не рады были, что зашли. Ноги у нас ползли по влажной, глинистой почве. На нас бросились лаять собаки, а на них бросилась старая китаянка унимать. Некоторые китайцы ужинали на пороге, проворно перекладывая двумя палочками рис из чашек в рот, и до того набивали его, что не могли отвечать на наше приветствие "чинь-чинь" ("Здравствуй"), а только ласково кивали.
Но, несмотря на запах, на жалкую бедность, на грязь, нельзя было не заметить ума, порядка, отчетливости, даже в мелочах полевого и деревенского хозяйства. Простыми глазами сразу увидишь, что находишься по преимуществу в земледельческом государстве и что недаром рука богдыхана касается однажды в год плуга как главного, великого деятеля страны: всякая вещь обдуманно, не как-нибудь, применена к делу; всё обработано, окончено; не увидишь кучки соломы, небрежно и не у места брошенной, нет упадшего плетня и блуждающей среди посевов козы или коровы; не валяется нигде оставленное без умысла и бесполезно гниющее бревно или какой-нибудь подобный годный в дело предмет. Здесь, кажется, каждая щепка, камешек, сор – всё имеет свое назначение и идет в дело.
Почва, по природе, болотистая, а ни признака болота нет, нет также какого-нибудь недопаханного аршина земли; одна гряда и борозда никак не шире и не уже другой. Самые домики, как ни бедны и ни грязны, но выстроены умно; всё рассчитано в них; каждым уголком умеют пользоваться: всё на месте и всё в возможном порядке.
Мы выбрались из деревеньки и вышли на так называемую променаду, отведенное европейцам загородное место для езды и для прогулок. Это широкая дорога, идущая от города, между полей, мимо вала, отделяющего лагерь империалистов от городской земли. Всё это место похоже на арену какого-нибудь цирка: земля так же рыхла, вспаханная лошадиными копытами. Мы застали и самое ристалище. Шанхайские европейцы и европейки скакали здесь взад и вперед: одни на прекрасных лошадях лучшей английской породы, привезенных из Англии, другие на малорослых китайских лошадках. Только одно семейство каталось в шарабане, да еще одну леди, кажется жену пастора, несли четыре китайца в железных креслах, поставленных на двух бамбуковых жердях. Несколько пешеходов, офицеров с судов да мы все составляли публику, или, лучше сказать, мы все были действующими лицами. Настоящую публику составляли китайцы, мирные городские или деревенские жители, купцы и земледельцы, кончившие дневной труд. Тут была смесь одежд: видна шелковая кофта и шаровары купца, синий халат мужика, камзол и панталоны империалиста с вышитым кружком или буквой на спине. Вся эта публика, буквально спустя рукава, однако ж с любопытством, смотрела на пришельцев, которые силою ворвались в их пределы и мало того, что сами свободно разгуливают среди их полей, да еще наставили столбов с надписями, которыми запрещается тут разъезжать хозяевам. Китайцы встречали или провожали замечанием каждого проезжего и смеялись. Особенно скачущие женщины возбуждали их внимание: небывалое у них явление! Их женщины – пока еще так себе, хозяйственная принадлежность: им далеко до львиц.
К нам присоединились другие наши спутники. Мы, сквозь эту фалангу любопытных, подошли к валу, взошли на мостик, брошенный дугой через канавку, и стали смотреть на лагерь. Туда и оттуда беспрестанно носили мимо нас в паланкинах китайских чиновников и купцов. Над сбитыми в кучу палатками насажены были тысячи разноцветных флагов и значков, всё фамильные гербы и отличия этого чиновно-аристократического царства. По временам из лагеря попаливали, но больше холостыми зарядами, для того, как сказывали нам английские офицеры, чтоб показать, что они бдят. В самом деле только бдят и пугают друг друга. Они палят и в туман, ночью, не видя неприятеля. Хоть бы ночное нападение и пожар, который мы видели с реки Вусуна, – жалкая карикатура на сражение.
Империалистами командует здесь правитель шанхайского округа Таутай Самква. Он собрал войско и расположил его лагерем у городских стен, а сам жил на джонках и действовал с реки. Как бы, кажется, не выгнать толпу бродяг и оборванцев? Но до сих пор все его усилия напрасны, европейцы сохраняют строгий нейтралитет, несмотря на то что он предлагает каждому европейцу по двадцати, кажется, долларов в сутки, если кто пойдет к нему на службу. Охотников до сих пор является мало. Ночное нападение ему не удалось. Он пробовал зажечь город, но и то неудачно: выгорело одно предместье, потому что город зажжен был против ветра и огонь не распространился. А сколько мелких и бесполезных жестокостей употреблено было! И это не устрашает инсургентов. Те заперлись себе в крепости, получают съестные припасы через стены из города – и знать ничего не хотят.
Пока я стоял на валу, несколько империалистов вдруг схватили из толпы одного человека, на вид очень смирного, и потащили к лагерю. Я думал, что это обыкновенная уличная сцена, ссора какая-нибудь, но тут случился англичанин, который растолковал мне, что империалисты хватают всякого, кто оплошает, и в качестве мятежника ведут в лагерь, повязав ему что-нибудь красное на голову как признак возмущения. А там ему рубят голову и втыкают на пику. За всякого приведенного инсургента дают награду. "Oh, that`s bad, very bad (худо)!" – заключил англичанин, махнул рукой и пошел прочь.
Но и инсургенты платят за это хорошо. На днях они объявили, что готовы сдать город и просят прислать полномочныхх для переговоров. Таутай обрадовался и послал к ним девять чиновников, или мандаринов, со свитой. Едва они вошли в город, инсургенты предали их тем ужасным, утонченным мучениям, которыми ознаменованы все междоусобные войны.
Англичанин этот, про которого я упомянул, ищет впечатлений и приключений. Он каждый день с утра отправляется, с заряженным револьвером в кармане, то в лагерь, то в осажденный город, посмотреть, что там делается, нужды нет, что китайское начальство устранило от себя ответственность за всё неприятное, что может случиться со всяким европейцем, который без особенных позволений и предосторожностей отправится на место военных действий.