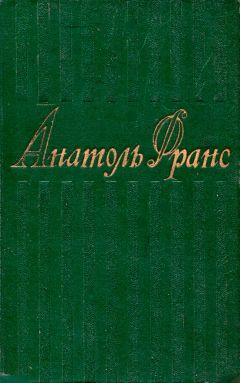— Зоя, мне нездоровится, принесите курицу, салат и стакан бордо. Ну, что новенького, Зоя?
— Что новенького? Открыт заговор мерзавцев аристократов; им, видно, не терпится попасть на гильотину! Но санкюлоты не дремлют! Не беспокойтесь! Швейцар говорил, что в нашем квартале ищут какого-то негодяя Альсида и что нынче ночью могут прийти с обыском и к вам.
Лежа под перинами, Альсид слышал это утешительное сообщение. Когда Зоя вышла, на него напала такая нервная дрожь, что кровать заходила ходуном, он сопел и хрипел на всю комнату.
— Вот так история, — пробормотала очаровательная г-жа Данже.
Она скушала куриное крылышко и дала несчастному Альсиду хлебнуть глоток бордо.
— О сударыня! О господи!.. — причитал он.
А затем принялся громко стонать, что было вполне понятно, но во всяком случае не остроумно.
«Так, — подумала г-жа Данже, — теперь не хватает только, чтобы пришли члены муниципалитета».
Не успела она подумать, как раздался стук ружейных прикладов на площадке лестницы; Зоя ввела четырех членов муниципалитета и тридцать солдат национальной гвардии.
Альсид замер и затаил дыхание.
— Вставайте, гражданка, — сказал один из национальных гвардейцев.
Другой заметил, что гражданке неудобно одеваться при мужчинах.
Третий, увидав бутылку вина, схватил ее, отхлебнул, и все поочередно стали к ней прикладываться.
Один из солдат, видимо большой весельчак, присел на кровать к г-же Данже и потрепал ее по подбородку.
— Вот досада, мордочка такая хорошенькая, а сама аристократка, и придется чикнуть ей шейку.
— Ну, ну, — сказала г-жа Данже, — вы, я вижу, любезные люди! Принимайтесь за дело и ищите попроворнее то, что вам надо отыскать, а то мне страшно хочется спать!
Они провели в комнате два томительно долгих часа. Двадцать раз то один, то другой, проходя мимо кровати, заглядывали под нее. Наконец, наговорив дерзостей, они ушли.
Не успел последний солдат исчезнуть за дверью, как г-жа Данже, просунув голову между стеной и кроватью, позвала:
— Господин Альсид, господин Альсид!
— Боже мой! Нас могут услышать. Господи Иисусе!.. Пожалейте меня, сударыня.
— Ну и страху же я натерпелась из-за вас, господин Альсид, — сказала бабушка. — Вы не подавали признаков жизни, я и решила, что вы уже умерли, и как подумала, что лежу на мертвеце, так чуть в обморок не упала! Нехорошо, господии Альсид! Ежели ты не умер, так надо хоть сказать! Никогда не прощу вам, что натерпелась такого страху.
Ну разве моя бабушка не прелесть? Ведь правда же, она отлично вела себя в истории с несчастным Альсидом. На следующий день она спрятала его в Медоне и таким образом спасла.
Трудно заподозрить дочь философа Дюсюэля в том, что она верила в чудеса или пыталась заглянуть в потусторонний мир. Она была совсем не религиозна, и ее здравый смысл, надо сказать несколько ограниченный, восставал против всего таинственного. Однако эта рассудительная особа рассказывала всем, кому не лень было слушать, о чудесном происшествии, свидетельницей которого ей довелось быть.
Навещая своего отца в доме заключения в Версальском монастыре францисканцев, она познакомилась с г-жой Лавиль, тоже заключенной там. Выйдя на волю, г-жа Лавиль поселилась на улице Ланкри в том же доме, где проживала моя бабушка. Обе квартиры выходили на одну площадку.
Госпожа Лавиль жила вместе с младшей сестрой — Амелией.
Амелия была высокая, красивая девушка. Ее бледное лицо в рамке черных волос поражало своей необыкновенной выразительностью. Глаза ее, временами томные, временами пламенные, искали вокруг что-то неведомое.
Она вступила в монашеский орден в Аржантьере, но не приняла пострига, и судьба ее пока еще не определилась. В ранней юности Амелия, как говорили, испытала горести неразделенной любви, которую ей пришлось подавить.
Казалось, что Амелию снедает тоска. Иногда она разражалась беспричинными слезами. Порой могла целыми днями сидеть неподвижно, тупо глядя перед собой, порой упивалась книгами религиозного содержания. Ее томили несбыточные мечты, терзали ужасные муки.
Арест сестры, казнь друзей, которых гильотинировали как заговорщиков, и непрерывные тревоги окончательно сломили ее и без того подорванный организм. Она страшно исхудала. Ее до смерти пугал барабанный бой, ежедневно призывавший членов городских секций к оружию, пугали люди в красных колпаках, вооруженные пиками, дефилирующие мимо ее окон с песней «Ca ira!», а затем на нее нападал столбняк, который сменялся нервным возбуждением. Припадки отличались страшной силой и порождали странные явления. Амелия стала видеть вещие сны, сбывавшиеся к удивлению окружающих.
Целыми ночами она бродила по комнатам и не то во сне, не то наяву слышала далекие шумы, стоны жертв. Порой, выпрямившись во весь рост, она простирала руки в темноту и, указывая на что-то невидимое, произносила имя Робеспьера.
— У нее верные предчувствия, она предсказывает несчастье, — говорила ее сестра.
В ночь с девятого на десятое термидора, бабушка вместе со своим отцом сидела в квартире двух сестер. Все четверо были очень возбуждены и обсуждали важные события истекшего дня, пытаясь предугадать их исход: тирана, арестованного по декрету, препроводили в Люксембургский дворец, но привратник не впустил его, и тогда он был направлен на набережную Орфевр, в полицию, откуда был освобожден коммунарами и доставлен в мэрию…
Там ли он сейчас? и если там, то какой: униженный или угрожающий? Все четверо были очень напуганы и не слышали ничего, разве только бешеный галоп лошадей конных нарочных, рассылаемых Анрио[245]. Они ждали, то предаваясь воспоминаниям, то высказывая опасения или пожелания. Амелия сидела молча.
Вдруг она громко вскрикнула.
Было половина второго ночи. Склонившись над зеркалом, Амелия, казалось, созерцала трагическую сцену.
Она бормотала:
— Я вижу, вижу его! Какой бледный! Изо рта льет кровь; зубы выбиты, челюсть раздроблена! Слава, слава создателю! Кровопийца захлебнется в собственной крови.
Выговорив это как-то странно, нараспев, она в ужасе вскрикнула и упала замертво.
В это самое мгновение в зале совещаний, в мэрии, Робеспьера поразила пуля, которая раздробила ему челюсть и положила конец террору.
Моя бабушка, хоть и была вольнодумкой, твердо верила в это видение. Как вы это объясните?
Я объясняю это тем, что, несмотря на свое вольнодумство, бабушка верила в дьявола и в оборотней. В юности вся эта чертовщина ее забавляла, — говорят, она любила гадать. Впоследствии ее обуял страх перед дьяволом, но было уже поздно: он крепко держал ее, и теперь она уже не могла не верить в него.
Девятое термидора вновь сделало сносной жизнь маленького общества с улицы Ланкри. Бабушка от всей души наслаждалась этой переменой, но не таила в сердце злобы против революционеров. Они не вызывали ее восхищения — никто, кроме меня, не вызывал ее восхищения, — но и не возбуждали в ней ненависти. Ей и в голову не приходило сводить с ними счеты за пережитый ею страх. Возможно потому, что бабушка вовсе и не переживала особого страха. Но главное то, что бабушка была «синей»[246], — «синей» в душе. А ведь кто-то сказал, что синие всегда останутся синими.
Между тем Данже продолжал свою блистательную карьеру на поле брани. Этот неизменный баловень судьбы был разорван пушечным ядром в битве при Абенсберге 20 апреля 1808 года, когда он, в полной парадной форме, вел в бой свою бригаду.
Бабушка, прочтя «Монитер»[247], узнала, что она овдовела, а храбрый генерал Данже, «увенчанный лаврами, предан земле».
— Как жаль! Такой красавец! — воскликнула она. Спустя год она вышла замуж за Ипполита Нозьера,
чиновника министерства юстиции, честного и веселого человека, игравшего на флейте с шести до девяти утра и с пяти до восьми вечера. На этот раз брак оказался удачным. Они были любящими супругами и, так как оба были уже не очень молоды, относились снисходительно друг к другу: Каролина прощала Ипполиту его вечную флейту, а Ипполит прощал Каролине ее сумасбродные выходки. Они жили счастливо.
Мой дед Нозьер известен как автор «Тюремной статистики» (Париж, Королевская типография, 1817–1819 гг., 2 тома, in 4°) и сборника «Дочери Момуса», новые песни (Париж, изд. автора, 1821, in 18°).
Его донимала подагра, но даже она не в силах была лишить его жизнерадостности, несмотря на то, что мешала ему играть на флейте. В конце концов она его одолела. Я не знавал своего деда, но у меня сохранился его портрет. Он изображен в синем фраке, курчавый, словно барашек, и с глубоко ушедшим в галстук подбородком.
— Я буду горевать о нем до самой смерти, — говорила моя восьмидесятилетняя бабушка, вдовевшая уже лет пятнадцать.