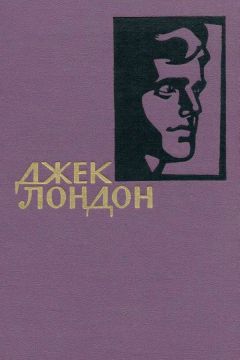И ради Игари я остался в чужом племени. Я научил их делать луки из красного, нежно пахнущего дерева, похожего на кедр, И я научил их не закрывать глаз, и целиться левым глазом; и выделывать тупые стрелы для мелких зверьков и костяные двузубые наконечники, чтобы поражать рыбу в прозрачной воде, и обтесывать обсидиановые наконечники, чтобы поражать оленя и дикую лошадь, лося и Саблезубого. Но они стали смеяться над тем, что я обтесываю камень, и смеялись до тех пор, пока моя стрела не пронзила насквозь тело лося так, что обтесанный наконечник вышел с другой стороны, а оперенное древко застряло во внутренностях зверя. Тут все племя стало хвалить меня.
Я был Ушу, стрелок из лука, а Игарь была моей женщиной и верной подругой. По утрам мы смеялись в солнечных лучах, глядя, как наши мальчик и девочка копошатся в цветах, осыпанные золотистой пыльцой, словно пчелы, собирающие мед. А по ночам она лежала в моих объятиях, ласкала меня и уговаривала бросить охоту: пусть другие мужчины приносят мне добытое с опасностью для жизни мясо за то, что я умею обрабатывать дерево и делать из обсидиана наконечники для стрел. И я послушался ее, и разжирел, обзавелся одышкой, и долгие ночи проводил без сна, потому что мужчины из этого чужого мне племени приносили мне мясо за мою мудрость, но смеялись над моей толщиной и нежеланием охотиться и сражаться. Когда же ко мне пришла старость и наши сыновья стали взрослыми мужчинами, а наши дочери — матерями, с юга, словно морские волны, нахлынули темнокожие люди с низкими лбами и вытянутыми черепами, и мы бежали от них к подножию гор, и тогда Игарь, как все мои прежние и будущие подруги, повисла на мне, стараясь не пустить в битву, ибо ей недоступны были далекие видения.
Но я вырвался от нее, хоть и был толст и страдал одышкой.
Она плакала, что я разлюбил ее а я сражался всю ночь, вплоть до зари, когда под пение тетивы и свист стрел — оперенных, с острыми наконечниками — мы научили Плосколобых искусству убивать и показали им, что такое упоение битвы.
А когда битва затихла и я испустил дух, вокруг меня раздавались песни смерти, и казалось, что это рассказ о том, как я был Ушу, стрелком из лука, а Игарь, моя подруга, повиснув на мне, старалась не пустить меня на битву.
Когда-то — бог знает когда, во всяком случае, в те давние дни, когда человек был юн, — мы жили у окраины больших болот, где холмы сбегали к широкой, медлительной реке, где наши женщины собирали ягоды и съедобные корни и где бродили табуны диких лошадей, стада оленей, антилоп и лосей. Мы поражали их стрелами или загоняли в ловушки или в узкие лощины, откуда не было выхода. В реке мы ловили рыбу сетями, которые наши женщины плели из коры молодых деревьев.
Я был жадно любопытен, как те антилопы, которых мы подманивали к своей засаде среди травяных зарослей, помахивая в воздухе пучками травы. На болоте рос дикий рис, поднимаясь высокой стеной по берегам протоков. Каждое утро дрозды будили нас своим щебетом, — это они покидали гнезда и летели кормиться на болота. И все долгие сумерки в воздухе слышался их пересвист, когда они возвращались в свои гнезда. Так бывало в пору созревания риса. И утки, водившиеся на болоте, жирели вместе с дроздами, клюя спелый рис, с которого солнце снимало шелуху.
Я был человеком, и поэтому меня всегда томила беспокойная жажда узнать, что скрывается за холмами и за болотами и в иле на дне реки, и я следил за дикими утками и дроздами и силился понять, пока мое упорство не подарило мне прозрения и я не увидел. А увидел я вот что и вот как.
Мясо — хорошая пища. Но, в конце концов, если проследить его путь, а вернее сказать, в самом начале этого пути, все мясо создавалось травой. Мясо утки и мясо дрозда рождалось из семян болотного риса. Чтобы убить утку стрелой, приходилось долго ее выслеживать и много часов проводить в засаде. Дрозды же были такими маленькими, что в них пускали стрелы лишь мальчишки, еще только учившиеся стрелять из лука. А вот в пору созревания риса мясо дроздов и уток было особенно сочным и жирным.
Их жир порождался рисом. Так почему бы мне и моим детям тоже не набраться жиру от риса?
Я обдумывал все это на становище молча, угрюмо, не замечая возившихся вокруг меня детей, и Арунга, моя подруга, тщетно осыпала меня упреками и уговаривала пойти на охоту, чтобы добыть побольше мяса для всех нас.
Арунга принадлежала к Племени Холмов, и я похитил ее.
Двенадцать лун мы с ней учились понимать друг друга после того, как я захватил ее. Что за день это был, когда я прыгнул на нее с ветви, нависшей над тропой, по которой она шла! Я свалился ей на плечи, придавил весом своего тела и крепко вцепился в нее, чтобы она не убежала. Она завизжала, как кошка. Она била меня кулаками, кусала и рвала ногтями, острыми, как когти рыси. Но я не выпустил ее и заставил ее покориться — два дня я бил ее и заставил уйти со мной из ущелий Племени Холмов на поросшие травой равнины, где река медленно струилась через рисовые болота, а утки и дрозды жирели не по дням, а но часам.
Мое прозрение пришло ко мне, когда рис созрел. Я усадил Арунгу на носу грубого подобия пироги — это был древесный ствол с выжженной сердцевиной — и велел ей грести. На корме я расстелил оленью шкуру, которую выдубила она. Двумя толстыми палками я пригибал колосья к шкуре и выколачивал зерно, которое иначе досталось бы дроздам. А когда я научился этому, я отдал палки Арунге, а сам сел на нос, греб и указывал ей, что надо делать.
Прежде мы иногда жевали сырой рис, и он нам не нравился.
Но теперь мы распарили его на костре, так что зерна набухли белыми шариками, и все племя сбежалось попробовать их.
После этого нас стали называть Пожирателями Риса и Сыновьями Риса, а много-много лет спустя, когда Сыновья Реки прогнали нас с болот на взгорье, мы взяли с собой семена риса и посеяли их там. Мы научились отбирать на семена самые большие зерна, и белые шарики риса, которые мы ели, отпарив или сварив их, становились все крупнее.
Но я рассказывал об Арунге. Я уже говорил, что она визжала и царапалась, как кошка, когда я похитил ее. А потом ее родичи из Племени Холмов захватили меня и утащили к себе в холмы.
Это были ее отец, его брат и два ее собственных кровных брата.
Но она принадлежала мне и была моей женой. И вот ночью, когда я лежал, спутанный, как дикий кабан, которого готовятся зарезать, а они, сморенные усталостью, заснули у костра, она подкралась к ним и разбила им головы боевой дубиной, изготовленной моими руками. А потом она плача развязала меня и бежала со мной назад, к широкой, медлительной реке, где дрозды и дикие утки кормились на рисовых болотах, — это было задолго до прихода Сыновей Реки.
Она же была Арунгой, единственной женщиной, вечной женщиной. Она жила во всех временах и во всех странах и будет жить всегда. Она бессмертна. Некогда в далекой стране ее звали Руфь, и еще ее звали Изольда и Елена, Покахонтас [164] и Унга. И человек из чужого племени много раз находил ее и будет находить всегда, во всех племенах земли.
Я помню бесчисленных женщин, из которых возникла она — единственная женщина. Было время, когда Ар, мой брат, и я спали по очереди и по очереди преследовали дикого жеребца — день и ночь напролет один из нас гнал его по широкому кругу, смыкавшемуся там, где спал второй. Мы не давали ему отдыха и с помощью голода и жажды укротили его гордый нрав, так что в конце концов он покорно стоял, пока мы связывали его ремнями, вырезанными из оленьей шкуры. Вот так, с помощью только наших ног, не утомляясь, ибо нами руководил разум (план принадлежал мне), мы с братом загнали этого неукротимого бегуна, и он стал нашим.
А когда я уже был готов взобраться ему на спину, ибо таково было видение, манившее меня издалека, — Сельпа, моя женщина, обняла меня за шею и стала громко кричать, что сделать это должен Ар, а не я, потому что у Ара нет ни жены, ни детей и его смерть никого не обездолит. А потом она стала плакать, и мое видение было у меня отнято: когда жеребец помчался прочь, на нем, плотно прильнув к нему нагим телом, сидел Ар, а не я.
На закате раздались причитания: это несли Ара от дальних утесов, где отыскали его мертвое тело. Его голова была разбита, и мозг, словно мед из поваленного бурей дуплистого дерева, где гнездятся пчелы, капля за каплей падал на землю. Его мать посыпала голову пеплом и зачернила лицо. Его отец отрубил половину пальцев на руке в знак печали. Все женщины, особенно молодые, еще не нашедшие мужей, осыпали меня злыми словами, а старики покачивали мудрыми головами и, шамкая, бормотали, что ни отцы их и ни отцы их отцов даже не помышляли о таком безумстве.
Лошадиное мясо — хорошая пища, мясо жеребят легко поддается даже старым зубам, но только глупец подойдет близко к дикой лошади, если ее не пронзила стрела или кол на дне ямы-ловушки.
А Сельна бранила меня, пока я не заснул, и утром разбудила нескончаемым потоком речей, попрекая меня моим безумием, заявляя о своем праве на меня и о праве наших детей, и повторяла это до тех пор, пока совсем меня не измучила; я отрекся от моего далекого видения и сказал, что никогда больше не буду мечтать о том, чтобы вскочить на дикую лошадь и помчаться быстрее ветра по пескам и заросшим травой равнинам.