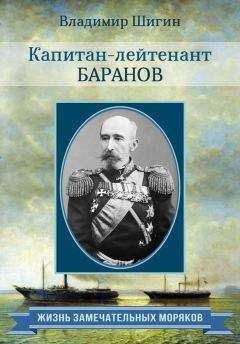Я стоял совершенно завороженный, пытаясь обнаружить в толпе вчерашних знакомых. Но обнаружить кого-либо в такой толпе мудрено, к тому же им, само собой, было не до меня. И если сейчас, в темноте, стоит такое столпотворение, что же будет, когда рассветет? Но я боялся опоздать в Минводы на самолет, поэтому, не дождавшись рассвета, поспешил к автобусной станции.
А машины все шли и шли…
(Очерк)
Сигнал боевой тревоги врезался в мозг и подкинул меня на подвесной койке. Он не стих и тогда, когда я очумело спрыгнул вниз; с пронизывающей настойчивостью он будил и будил затуманенное сном сознание. Над головой прокатился тяжелый грохот матросских ботинок. Я быстро оделся, хотел выбежать из каюты, но вспомнил, что мне лучше сидеть и никому не мешать. Как я догадывался, это было все, что от меня требовалось. Правда, с молчаливого разрешения командира я мог наблюдать и ходить по всему кораблю, мне никто не запрещал этого. Но сейчас я не хотел быть наблюдателем. Роль гостя, то есть человека лишнего и ненужного на военном корабле, тоже меня не устраивала. И я не знал, что делать…
Плафон освещал бортовой скос каюты с иллюминатором, неумело задраенным мною. Стол и две подвесные койки. Репродукция картины популярного русского пейзажиста, шкафчик с необходимыми туалетными принадлежностями и мемуарная книга — вот и все, что учило сейчас меня дорожить уютом.
За бортом глухо шумели океанские волны. Где-то подо мной что-то надрывно гудело, что-то вздрагивало. Легкая, еле заметная бортовая качка порождала ощущение неестественности. Интересно, а как бы я выдержал настоящую, притом килевую, качку? На таком корабле при четырехбалльном ветре даже в океане этого не узнать. Но я вдруг почувствовал самоуверенность: ведь говорят, что даже адмиралу Нельсону ставили на мостик специальное деревянное ведерко. По шуму воды за бортом, по частоте ритмических вздрагиваний и по каким-то неосознанным ощущениям я догадался, что корабль идет на предельной скорости. И я вдруг почувствовал физическую близость грандиозной океанской стихии. Подо мной и вокруг меня, всюду была мятущаяся вода, океанская, непостижимая, не подвластная ничему бездна. Безбрежная, тревожно-непонятная, ничем не обузданная, существующая помимо человека, независимая стихия. Размеры ее не умещались в пределах человеческих представлений, это подавляло и унижало.
Но как же я очутился за тридевять земель от близкого сердцу мира, над этой бездной среди океана?
В раннем возрасте мир, окружающий нас, кажется не только удивительно гармоничным, но и образным. Помнится, глядя на глобус, я думал, что Земля в самом деле оплетена меридианами. Эдакие прочные толстые стальные струны, протянутые по странам и океанам, сходятся на полюсах, образуя прочные узлы. И я терялся в догадках, что же делают, когда такая струна вдруг отвяжется или лопнет?
С годами один за другим лопаются меридианы наших детских наивных представлений. Но, даже будучи школьником, читая Арсеньева, я нет-нет да и представлял старого гольда Дерсу в таком виде: он бредет по Уссурийской тайге и, отмахиваясь от комаров, ворчливо перешагивает через стальную, оплетенную корнями струну… Может быть, тогда и зародилась мечта побывать на Дальнем Востоке, увидеть зеленые перепады Сихотэ-Алинского хребта, услышать шум океана.
По-разному сбываются у людей мечты. Однажды, полушутя и не веря в успех, я попросил военную комиссию Союза писателей дать мне командировку на Тихоокеанский военный флот. Написал заявление и, забыв обо всем, уехал в свою Тимониху. Теплое, тихое вологодское лето настроило меня на рабочий лад. Между делом я бродил по лесам и удил на озере окуней, а самое главное, ходил с ружьем на лабаза в надежде перехитрить медведя.
Небольшое овсяное поле было за речкой на возвышенности, рядом с маленькой деревушкой. Сосны стояли прямо в хлебах, как на картине Шишкина. Я приходил сюда еще при солнышке, устраивался поудобнее на средних мутовках, проверял заряженные жаканами патроны и затихал. В течение многих часов нельзя было не только курить, но и шевелиться. В первую ночь медведь не пришел, во вторую я слышал только, как треснул невдалеке сухой сучок.
Очень осторожным был этот зверь! Утром на следующий день я увидел на влажной лесной дороге его свежий след: я не терял надежды на удачу.
Но сколько всего было кругом, не считая медведя! Я залезал по мутовкам на сосну, держа в зубах ремень двустволки. Усаживался и замирал, растворялся в родном, ласковом, окружающем меня мире. Был теплый август, может быть, конец июля, но почему-то не было ни комаров, ни мошки, ничто не тревожило меня на этой теплой сосне, которая не шевелила ни единой иголочкой, но жила. Жила полнокровно, с большим достоинством: я все время ощущал это достоинство и полнокровие. Солнце золотилось в иглах, нагревало оранжево-медные ветки и наконец медленно опускалось за лес. Я видел, как внизу в речной пойме зарождался туман, слушал, как вокруг одна за другой стихали и устраивались на ночлег птички. В деревне до поздней поры медленно затихала жизнь, слышно было далеко и очень отчетливо: как стучит телега с молочными флягами, как лают собаки и как женщины кличут домой разыгравшихся ребятишек. Видно было тоже очень далеко и отчетливо. Заря за лесом, меняя золотистые, оранжевые и бордовые тона, незаметно переходила в глубокое, несмотря на сумерки, лазурно-синее небо, зеленоватые мелкие звездочки незаметно зажигались на противоположной от нее стороне. Но странные эти сумерки как будто еще более прозрачным делали воздух — незаметный для дыхания и пахнущий сеном, росою и ароматами поздних цветов. Помнится, я сидел на сосне так тихо, что лесная синица, не заметив меня, слетела к самому моему уху. Она попищала, поприпрыгивала и угомонилась, видимо решив ночевать именно тут и нигде больше. Я начал тихо поворачивать голову и увидел сонную бусинку ее глазка, который сморенно затягивался пленкой нижнего века. Но ей пришлось улететь, а мне пришлось переменить положение. Ночь понемногу затемнила даже ярко желтеющие овсяные полосы, медведь снова надул меня.
Я тихо слез на землю, а через десять минут крепко заснул на чердаке под овчинным одеялом. Я знал, был уверен, что мой медведь все равно придет на овес, рано или поздно, но придет. И я спал тогда счастливо и крепко.
Утром же меня срочно вызвали в Вологду. Мне хотелось работать и ходить на медведя, мне никуда не хотелось ехать… В Вологде я попробовал хлопотать об отмене поездки, дело дошло даже до канцелярии военного министра. Но уже через восемь дней я оказался за сто тридцатым меридианом. За несколько тысяч километров от моего медведя. Очнулся лейтенантом Тихоокеанского флота в фуражке с белоснежным чехлом, которая была мне слегка маловата. Она стягивала вверх кожу на лбу, отчего я выглядел пучеглазым и забывал иногда приветствовать старших по званию…
Уже на Ярославском вокзале в Москве ощущается далекое дыхание океана. Оно сказывается в особой, сдержанной простоте пассажиров-дальневосточников, выделяющихся неторопливой деловитостью, а также искренностью прощальных слов. Владивостокский поезд можно узнать и по обилию белых фуражек: моряки возвращаются из отпусков, уезжают на службу после учебы. Многие пассажиры, как и я, ехали за сто тридцатый меридиан впервые. Во всяком случае, тот молоденький симпатичный лейтенант, почти мальчик, ехал на восток явно впервые. Он был в безукоризненно свежей форме морского летчика и с кортиком. Возбуждение и неопытность помешали ему заметить, как многозначительно и насмешливо переглянулись два офицера— два его соседа по вагону. Наверное, прослужив на флоте несколько лет, узнав цену книжной романтике, они увидели в нем свою же юность и с доброй снисходительностью простили ему его новенький кортик. (Еще не доехав до Урала, молоденький лейтенант спрятал оружие в чемодан.)
«Россия», стуча колесами, стремительно увозит нас на Дальний Восток. Нужно забыть на время о существовании звенящих «ИЛов» и «ТУ»; взять железнодорожный билет и выдержать семидневное путешествие. Иначе никогда не увидишь, как велика, как бескрайна и грандиозна наша страна. Не почувствуешь свою причастность к ней в полную меру. Впрочем, ощущение грандиозности, чувство физической бескрайности Родины приходит еще до Урала…
Мы перевалили Уральский хребет глубокой ночью: за окном спокойно мерцали редкие огни рабочих поселков. По-видимому, для этих городов и поселков-тружеников совсем ни к чему богатая столичная иллюминация.
Поезд очень долго вырывался из хвойных объятий, пока утром однажды тайгу не сменили ясные лесостепи, с березовыми прозрачными рощицами, ровными полями и скирдами обмолоченных злаков. Березовые колки тянулись за поездом долго и настойчиво, пока не показались вдали призрачно-серебристые горы.