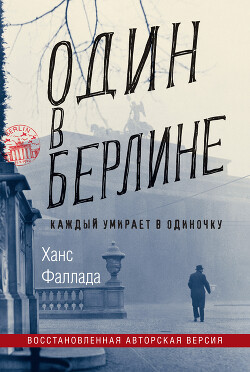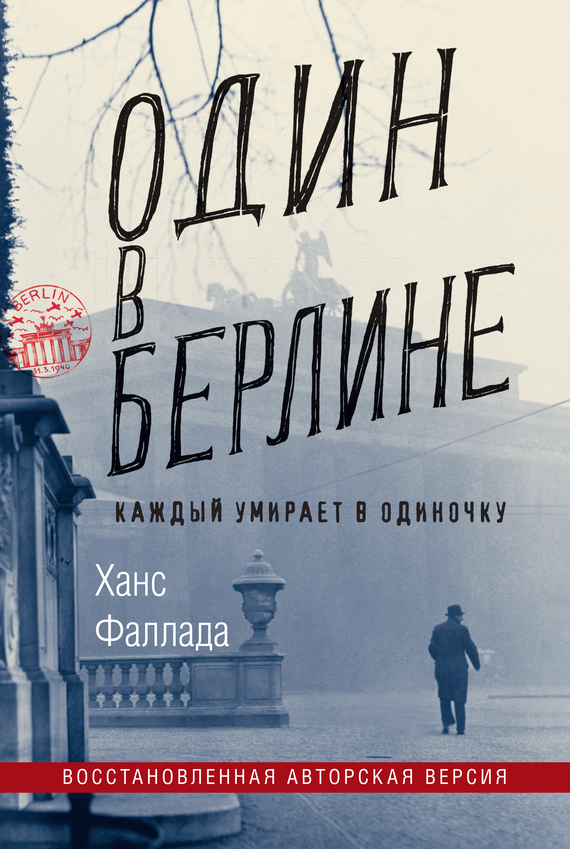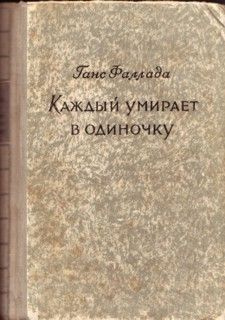— Ты, Бальдур, завсегда любил прихвастнуть! Я же знал, партия на меня ни в жисть бочку не покатит, раз я цельных пятнадцать лет с Гитлером в одной упряжке! Не-ет, ежели ты надрывал пуп, так только по собственной дурости. Я бы в два счета все решил, вышел бы отсюда и решил!
Папаша впрямь не блещет умом. Нет чтобы слегка польстить сынку, поблагодарить его и похвалить, тогда Бальдур Персике стал бы, пожалуй, благосклоннее. Но теперь его тщеславие глубоко уязвлено, и он лишь коротко бросает:
— Если б вышел, папаша! Но ты из этого дурдома не выйдешь никогда!
От этих беспощадных слов папаша приходит в ужас, его аж в дрожь бросает. Однако он берет себя в руки:
— Это кто ж меня тут задержит?! Я покамест человек свободный, и сам главврач, доктор Мартенс, говорит, надо, мол, еще месячишка полтора подлечиться, а там и на выписку. Выздоровлю я, стало быть.
— Никогда ты не выздоровеешь, папаша, — насмешливо говорит Бальдур. — Ты ж опять запьешь. Сколько раз так было. Я предупрежу главврача и позабочусь, чтоб тебя признали недееспособным!
— Он этого не сделает! Доктор Мартенс оченно меня любит, говорит, кроме как я, никто таких похабных анекдотов не знает! Он со мной этак не поступит. Опять же твердо обещал выписать через полтора месяца!
— Но если я расскажу, как ты вот только что уговаривал меня тайком притащить тебе бутылку, он определенно посмотрит на твое излечение по-другому!
— Ты этого не сделаешь, Бальдур! Ты ведь мой сын, а я твой отец…
— А дальше что? Отец есть у каждого, только вот я считаю, мне достался самый что ни на есть паршивый. — Он брезгливо смотрит на отца и, помолчав, добавляет: — Нет уж, папаша, выбрось выписку из головы, привыкай к мысли, что останешься тут. На воле ты только всех нас позоришь!
Старик в полном отчаянии:
— Мать нипочем не подпишет… насчет этой… как ее… недееспособности, не засадит меня по гроб жизни!
— Ну, срок вряд ли будет очень уж долгий, видок-то у тебя не ахти! — Бальдур хохочет, закидывает ногу на ногу. Удовлетворенно глядит на свои роскошные бриджи и блестящие сапоги, надраенные матерью. — А мамаша тебя как огня боится, даже навестить отказывается. Думаешь, она забыла, как ты схватил ее за горло и начал душить? Такое мамаша не забудет!
— Тогда я напишу фюреру! — возмущенно выкрикнул старик Персике. — Фюрер не бросит старого бойца в беде!
— А какой фюреру от тебя прок? Фюрер на тебя плевать хотел, он на твои каракули даже смотреть не станет! Вдобавок у тебя, алкаша, руки трясутся, двух слов написать не сумеешь, и вообще, за эти стены никакая твоя писанина не выйдет, уж об этом я позабочусь! Нечего зазря бумагу переводить!
— Бальдур, да пожалей ты меня! Ведь когда-то ты был маленьким! И по воскресеньям я ходил с тобой гулять. Помнишь, в Кройцберге вода в канале красиво так играла розовым да голубым? Я завсегда покупал тебе сосиски и леденцы, а когда в одиннадцать лет ты попал в историю с тем ребенком, я в лепешку расшибся, лишь бы ты не вылетел из школы и не угодил в исправиловку! Что бы с тобой было без старика-отца, Бальдур? Не можешь ты закопать меня в энтой дурке!
Слушая эту тираду, Бальдур даже бровью не повел. Потом сказал:
— На чувства давишь, папаша? Резонно с твоей стороны. Только на меня это не действует, тебе ли не знать, что я на чувства чихать хотел! Чувства… по мне, бутерброд с ветчиной куда лучше! Ну да ладно, все-таки подарю тебе еще сигаретку — алле-гоп!
Но старик слишком разволновался, чтобы думать о куреве. И сигарета — к новому неудовольствию Бальдура — незамеченная упала на пол.
— Бальдур! — снова взмолился папаша. — Кабы ты допетрил, что это за дом! Голодом человека морят, санитары чуть что кулаки в ход пускают. И от других больных опять же тычки да пинки. Руки-то у меня дрожат, отбиться не могу, так они еще и жратву отнимают…
Под причитания старикана Бальдур собрался уходить, но отец вцепился в него, не отпускал и все торопливее говорил:
— Тут и кой-чего пострашнее случается. Которые больные расшумятся, так старший санитар делает им укол какой-то зеленой хрени, не знаю, как она называется. Люди от ей бесперечь блюют, прям наизнанку их выворачивает, а потом и дух вон. Мертвехоньки, Бальдур! Ты же не хочешь, чтоб отец твой этак помер, чтоб все нутро выблевал, твой родной отец! Бальдур, сделай милость, помоги! Забери меня отсюда, шибко мне боязно!
Но Бальдур Персике давно был сыт по горло его нытьем. Он силком высвободился, пихнул старика в кресло и сказал:
— Ладно, пока, папаша! Передам мамаше привет от тебя. И не забудь, возле стола лежит сигарета. Жаль, если пропадет!
С этими словами этот истинный сын истинного отца (что тот, что другой — истинные продукты гитлеровского воспитания) вышел вон.
Однако из лечебницы для алкоголиков Бальдур пока не ушел, направился к главврачу, господину доктору Мартенсу. Ему повезло: главврач был на месте и принял его. Учтиво поздоровался с посетителем, и секунду оба настороженно, изучающе смотрели друг на друга.
Потом главврач сказал:
— Как я вижу, вы, господин Персике, учитесь в «наполе», или я ошибаюсь?
— Нет, господин главврач, не ошибаетесь, — гордо отвечал Бальдур.
— Н-да, нынче для молодежи у нас много чего делают, — одобрительно кивнул главврач. — Мне бы в юности такую поддержку. Вас еще не призвали на военную службу, господин Персике?
— От обычной армейской службы я, вероятно, буду избавлен, — небрежно-презрительно сказал Бальдур Персике. — Наверно, получу в управление какую-нибудь большую сельскую территорию, на Украине или в Крыму. Несколько десятков квадратных километров.
— Понимаю, — кивнул врач. — И пока что овладеваете необходимыми для этого знаниями?
— Развиваю командирские качества, — скромно пояснил Бальдур. — Специальными вопросами займутся подчиненные. Я же буду держать их под контролем. И муштровать иванов. Слишком уж их много!
— Понимаю, — опять кивнул доктор Мартенс. — Восток — территория нашего будущего расселения.
— Совершенно верно, господин главврач, через двадцать лет до самого побережья Черного моря и до Урала не останется ни одного славянина. Это будут чисто немецкие земли. Мы — новый рыцарский орден!
Глаза Бальдура за стеклами очков мечут молнии.
— И всем этим мы будем обязаны фюреру, — сказал главврач. — Ему и его соратникам!
— Вы состоите в партии, господин доктор Мартенс?
— К сожалению, нет. Сказать по правде, мой дед совершил опрометчивый поступок, известную ошибочку, понимаете? — И он поспешно добавил: — Но дело полностью улажено, мое начальство ходатайствовало за меня, и я считаюсь чистокровным арийцем. То есть я и есть ариец. Надеюсь, вскоре тоже буду носить свастику.
Бальдур сидел очень прямо. Как чистокровный ариец, он чувствовал огромное превосходство над доктором, вынужденным пользоваться, так сказать, черной лестницей.
— Я хотел поговорить с вами о моем отце, господин главврач, — сказал он едва ли не начальственным тоном.
— О, с ним все в порядке, господин Персике! Думаю, через полтора-два месяца мы сможем выписать его как полностью излечившегося…
— Мой отец неизлечим! — резко перебил Бальдур Персике. — Сколько я себя помню, он постоянно пил. И если вы утром выпишете его как излечившегося, после обеда он явится к нам пьяный. Знаем мы эти излечения. Моя мать, братья и сестра настаивают, чтобы отец провел здесь остаток своих дней. Я присоединяюсь к их пожеланиям, господин главврач!
— Разумеется, разумеется! — торопливо заверил врач. — Я поговорю об этом с господином профессором…
— В этом нет нужды. Мы с вами принимаем окончательное и бесповоротное решение. Если мой отец в самом деле появится дома, он в тот же день снова будет доставлен сюда, причем вдрызг пьяный! Вот так будет выглядеть ваше полное излечение, господин главврач, и поверьте, последствия будут для вас весьма неприятны!
Оба смотрели в очки друг на друга. Но главврач, увы, был трусом: он не выдержал беззастенчиво-нахального взгляда Бальдура, опустил глаза.