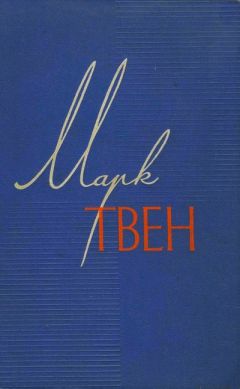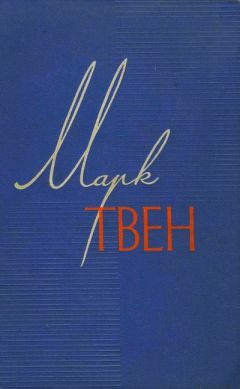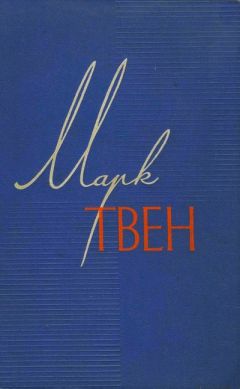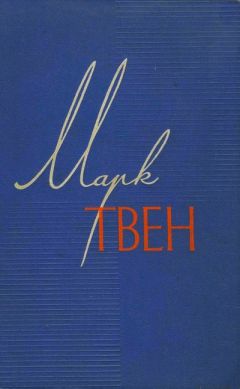— Ну? А мне казалось, что транзитные билеты невозможно купить нигде, кроме Лондона и Парижа.
— Кому невозможно, а кому и возможно. Я, например, из тех, кто может.
— Цена, по-моему, довольно высока.
— Наоборот, комиссионер еще отказался от наценки.
— Комиссионер?
— Да, я их купил в табачной лавке.
— Хорошо, что вы мне напомнили! Завтра надо подняться очень рано, на сборы времени не будет. Так что возьмите свой зонт, калоши, сигары… Что случилось?
— Черт! Я забыл сигары в банке.
— Подумать только! Ну а зонт?
— С зонтом-то я сейчас все устрою. Это дело минутное.
— Какое дело?
— Да нет, чепуха; это я мигом…
— Но где же все-таки ваш зонт?
— Ерунда, в двух шагах, это не займет и….
— Да где же он?
— Я, кажется, забыл его в табачной лавке, во всяком случае, я…
— Ну-ка, выньте ноги из-под стула. Ну вот, так я и знала! А калоши где?
— Калоши… они…
— Где ваши калоши?
— Эти дни такая сушь стоит… все говорят, что теперь дождя но…
— Где ваши калоши?
— Я… видите ли… дело обстояло так: сначала офицер сказал…
— Какой офицер?
— В полиции; но мэр, он…
— Какой мэр?
— Мэр города Женевы… но я сказал…
— Погодите, что с вами случилось?
— Со мной? Ничего. Они оба уговаривали меня остаться и…
— Да где остаться?
— Понимаете ли… собственно говоря…
— Где же вы все-таки были? Где вы могли задержаться до половины одиннадцатого ночи?
— Д-да, видите ли, после того как я потерял аккредитив, я…
— Напрасно вы заговариваете мне зубы. Отвечайте на вопрос коротко и ясно: где ваши калоши?
— Они… они в тюрьме.
Я попробовал было заискивающе улыбнуться, но улыбка моя окаменела на полпути. Обстановка была явно неподходящая. В том, что человек провел часок-другой в тюрьме, члены нашей экспедиции не видели ничего смешного. Да и я, по правде говоря, тоже.
Пришлось мне им все объяснить. Ну и тут, понятно, выяснилось, что мы не можем ехать завтра утренним поездом, — ведь тогда я не успею вызволить аккредитив. Кажется, нам оставалось только разойтись в самом что ни на есть невеселом и недружелюбном расположении духа, но в последний миг мне повезло. Заговорили о чемоданах, и я получил возможность заявить, что с чемоданами-то я все устроил.
— Вот видите, какой вы, оказывается, заботливый, старательный и догадливый! Просто стыд, что мы к вам так придираемся. Ни слова больше об этом! Вы превосходно со всем справились, и я раскаиваюсь, что проявила такую неблагодарность.
Похвала ранила острее попреков. Мне стало сильно не по себе, потому что это дело с чемоданами не внушало мне особой уверенности. Было в нем какое-то слабое место, но какое именно, я вспомнить не мог, а затевать теперь лишние разговоры не хотелось, ибо час был поздний и неприятностей и без того хватало.
Утром в гостинице, конечно, устроили концерт, когда выяснилось, что мы не едем утренним поездом. Но мне было некогда, я выслушал только несколько вступительных аккордов увертюры и пустился в путь за аккредитивом.
Мне подумалось, что сейчас самое время поинтересоваться еще раз насчет чемоданов и, если понадобится, внести поправки, а я подозревал, что поправки понадобятся. Я опоздал. Служащий сказал, что еще вчера вечером отправил наши чемоданы пароходом в Цюрих. Я недоумевал, как он мог это сделать, прежде чем мы предъявили ему проездные билеты.
— В Швейцарии это необязательно, — объяснил он. — Вы платите и отправляете свои чемоданы куда вам вздумается. Все перевозится за плату, кроме ручного багажа.
— Ну а сколько вы заплатили за наши чемоданы? — Сто сорок франков.
— Двадцать восемь долларов. Да, что-то в этом деле с чемоданами не так.
Потом я встретил швейцара из нашей гостиницы. Он сказал:
— Вы плохо спали сегодня ночью? У вас изможденный вид. Может быть, вы хотели бы нанять агента? Вчера вечером вернулся один, он свободен ближайшие пять дней. Фамилия — Луди. Мы его рекомендуем… das heisst[147] Гранд-отель Бо-Риваж рекомендует его своим постояльцам.
Я холодно отказался. Мой дух был еще не сломлен. И потом, мне не нравится, когда на мои неприятности обращают такое явное внимание. К девяти часам я отправился в городскую тюрьму, питая надежду, что, может быть, мэр вздумает прийти раньше, чем начинаются его присутственные часы. Но он не пришел. В тюрьме было скучно. Всякий раз как я пытался что-нибудь тронуть или на что-нибудь взглянуть, что-нибудь сделать или чего-нибудь не сделать, полицейский заявлял, что это defendu[148]. Тогда я решил попрактиковаться на нем во французском языке, но он и тут не пошел мне навстречу: почему-то звуки родного языка привели его в особенно дурное расположение духа.
Наконец прибыл мэр, и тут все пошло как по маслу: был созван Верховный суд, — они его всегда созывают, когда решается вопрос о ценном имуществе, поставили, как во всяком порядочном суде, стражников, капеллан прочел молитву, принесли незапечатанный конверт с моим аккредитивом, открыли его — и там ничего, кроме нескольких фотографий, не обнаружили, потому что теперь я отчетливо вспомнил, как вынул из конверта аккредитив, чтобы было куда положить фотографии, а самый аккредитив засунул в другой карман, что я и доказал ко всеобщему удовлетворению тем, что извлек упомянутый документ из кармана и, ликуя, предъявил присутствовавшим. Члены суда бессмысленно уставились сначала друг на друга, потом на меня, потом снова друг на друга и в конце концов все-таки меня отпустили, но сказали, что мне небезопасно находиться на свободе, а также поинтересовались моей профессией. Я объяснил им, что я агент по обслуживанию туристов. Тут они благоговейно возвели очи к небесам и произнесли: «Du lieber Gott»[149], а я в нескольких словах поблагодарил их за столь открыто выраженное восхищение и поспешил в банк.
Однако должность агента уже сделала из меня большого любителя порядка и системы, сторонника правил: «не все сразу» и «всему свой черед»; поэтому я прошел банк, не заходя туда, свернул в сторону и пустился в путь за двумя недостающими членами нашей экспедиции. Поблизости дремал извозчик, которого я после длительных уговоров нанял. Во времени я ничего не выиграл, но то был весьма покойный экипаж, и он пришелся мне по душе. Длившиеся уже педелю празднества по поводу шестисотой годовщины со дня рождения швейцарской свободы и подписания союзного договора были в полном разгаре, и запруженные улицы пестрели флагами[150].
Лошадь и кучер пьянствовали три дня и три ночи напролет, не ведая ни стойла, ни постели. Вид у обоих был измочаленный и сонный — и это как нельзя более отвечало тому, что чувствовал я. Однако в конце концов мы все же подъехали к пансиону. Я слез, позвонил и сказал горничной, чтобы она поторопила наших друзей; я подожду их на улице. Она проговорила в ответ что-то, чего я не понял, и я вернулся в свой экипаж. Вероятно, девушка хотела мне втолковать, что эти жильцы не с ее этажа и что разумнее будет, если я поднимусь по лестнице и стану звонить на каждом этаже, пока не найду тех, кто мне нужен; ибо разыскать нужных людей в швейцарском пансионе можно, кажется, только если проявишь величайшее терпение и согласишься взбираться наугад от двери к двери. Я рассчитал, что мне предстоит дожидаться ровно пятнадцать минут, потому что в подобных случаях совершенно неизбежны следующие три этапа: во-первых, надевают шляпы, спускаются вниз и усаживаются; во-вторых, один возвращается за оставленной перчаткой; и в-третьих, после этого другому необходимо сбегать наверх, потому что он забыл там «Французские глаголы с одного взгляда». Я решил, что не буду нервничать и поразмыслю на досуге эти четверть часа.
Я погрузился было в блаженный покой ожидания — и вдруг почувствовал у себя на плече чью-то руку. Я вздрогнул. Нарушителем моего спокойствия оказался полицейский. Я глянул на улицу и увидел, что декорации переменились. Кругом собралось много народу, и у всех был такой довольный и заинтересованный вид, какой бывает у толпы, когда кто-нибудь попал в беду. Лошадь спала, спал и кучер, и какие-то мальчишки увили нас пестрыми лентами, сорванными с бесчисленных флагштоков. Зрелище было возмутительное. Полицейский сказал:
— Простите, мосье, но мы не можем вам позволить спать здесь целый день.
Я был оскорблен до глубины души и ответил с достоинством:
— Прошу прощения, но я не спал. Я думал.
— Вы, конечно, можете думать, если вам хочется, но тогда думайте про себя, а вы подняли шум на весь квартал.
Это была неудачная шутка, в толпе стали смеяться. Я, правда, храплю иногда по ночам, но чтобы я стал храпеть в таком месте, да еще средь бела дня, — это весьма маловероятно! Полицейский освободил нас от украшений, он с сочувствием отнесся к нашей бесприютности и вообще был очень дружелюбен; однако он сказал, что нам нельзя больше здесь оставаться, иначе ему придется взыскать с нас плату за постой, — таков у них закон; потом он дружески заметил, что я выгляжу омерзительно и вообще, черт возьми, хотелось бы ему знать…