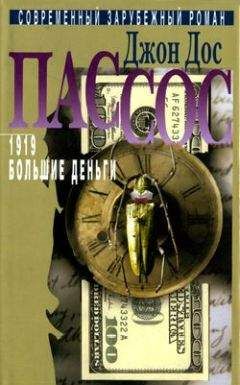Она упрекнула его в бессердечности. Он ответил, что должен принести свои личные чувства в жертву рабочему классу, и, рассердившись, выбежал из дома, громко хлопнув дверью. В конце концов ей пришлось сделать аборт, и она вынуждена была снова написать матери и попросить денег на операцию.
Теперь она еще активнее включилась в работу забастовочного комитета. Иногда поспать удавалось всего четыре-пять часов, и так в течение многих недель. Она пристрастилась к курению. На краешке каретки ее пишущей машинки всегда лежала горящая сигарета. Пепел с нее осыпал напечатанные под копирку листки. Когда ее присутствия в офисе не требовалось, она шла собирать деньги у состоятельных женщин, уговаривать видных либеральных деятелей принять участие в пикете, чтобы их там арестовали, любыми способами выманивала нужные статьи у журналистов, ездила по стране в поисках благотворителей, готовых внести залог за освобождение на поруки арестованных.
Забастовщики, мужчины, женщины, дети в пикетах, в бесплатных столовых для бедняков и безработных, интервью с ними в грязных тусклых передних квартир с вывезенной за неуплату последнего взноса мебелью, автобусы, набитые штрейкбрехерами, копы и депутаты с обрезами в руках, охраняющие высокие заборы перед безмолвными ужасно длинными заводскими и фабричными корпусами с черными от копоти окнами, – все это проходило чередой у нее перед глазами, словно в тумане, во сне, словно какое-то шоу на сцене, а она в это время не отрываясь стучала на машинке, размножала напечатанное, сочиняла письма, составляла петиции, выполняла утомительную конторскую работу, поглощавшую все ее дни и ночи.
У них с Беном больше не было совместной жизни. Она по-прежнему восторгалась им, как и рабочие на митингах, когда он поднимался на трибуну под рев голосов, топот тысяч ног, под бурные аплодисменты и обращался к ним с полыхающими от страсти щеками, сияющими глазами, и в эту минуту казалось, что он говорит непосредственно с каждым человеком, мужчиной и женщиной, поощряет их, предостерегает, объясняет возникшую экономическую ситуацию. Все фабричные девчонки сходили по нему с ума. Мэри Френч, хотя и старалась всякий раз сжать всю свою волю в кулачок, чувствовала, как у нее начинает сосать под ложечкой, когда они бросали на него свои откровенно похотливые взгляды, когда какая-нибудь пышногрудая, еще не утратившая свежести женщина, бесцеремонно останавливала его где-нибудь в холле, за дверью их офиса и, положив свою руку ему на локоть, кокетливо заставляла его обратить внимание на нее. Мэри, работая за своим столом, постоянно чувствуя горечь и сухость во рту от злоупотребления куревом, с тоской глядела на свои пожелтевшие от никотина пальцы, откидывая со лба сбившиеся пряди грязных волос. Ей казалось, что она плохо одета, что утратила всю свою былую привлекательность. Улыбнись он ей хотя бы разок, она была бы счастлива весь день. А то орет при всех на нее за то, что она не сумела вовремя приготовить листовки. Кажется, он напрочь забыл, что они когда-то были любовниками.
Из Вашингтона приехали официальные представители американской федерации труда, в своих дорогих пальто и шелковых шарфах. Они курили пахучие сигары по двадцать пять центов за штуку и без всякого стеснения плевали на пол в кабинетах. Ловко перехватив инициативу из рук Бена, уладили забастовку. Однажды Бен появился У нее на Четвертой улице поздно вечером, когда она уже укладывалась спать. Глаза у него сильно покраснели от недосыпания, а землистого цвета щеки провалились. Им целиком овладело отчаяние, у него было тяжело на сердце, он демонстрировал ей свою горечь и холодность. Часами он понуро сидел на краю ее кровати, рассказывая монотонным хриплым голосом о предательстве, об ожесточенных спорах между леваками, ортодоксальными социалистами и рабочими лидерами, о том, что теперь, когда все кончено, его ожидает судебное разбирательство по обвинению в оскорблении суда.
– Мне ужасно не по себе оттого, что придется употребить деньги рабочих на собственную защиту… Рано или поздно они все равно отправят меня за решетку… но сейчас главное – создать прецедент. Теперь нам нужно отстаивать каждое дело в суде, бороться за него… Единственный способ – прибегнуть к услугам либерально настроенных адвокатов, а не этих гнусных мошенников… Но все это стоит кучу денег, профсоюз разорен, и я не имею никакого права тратить его деньги на себя… товарищи, правда, возражают, говорят, если мы выиграем мое дело, то и все другие наши ребята тоже будут оправданы…
– Сейчас для тебя самое главное – расслабиться, отдохнуть, – сказала она, убирая его волосы со лба.
– Это говоришь мне ты? – упрекнул он ее, расшнуровывая ботинки.
Она еще долго не могла уговорить его лечь. Он по-прежнему сидел на краешке ее постели, полураздетый, в темноте, дрожа всем телом. Говорил, говорил о допущенных ими ошибках при проведении забастовки. Наконец, он снял с себя все, встал, чтобы повесить одежду на спинку стула. В широком желтоватом луче света от уличного фонаря, пробивающегося через окно, он был похож на скелет. Увидев его впалую хилую грудь, выпирающие ключицы, она расплакалась.
– Что с тобой, девочка моя? – хрипло спросил Бен. – Ты плачешь, потому что тебе не удалось затащить себе в кровать такого красавчика, как Валентино?
– Какая чепуха, Бен! Просто я подумала, что тебе нужно немного поправиться… бедный мой мальчик, ты слишком много работаешь, не жалеешь себя.
– Очень скоро ты будешь гулять с каким-нибудь смазливеньким брокером, как когда-то делала в своем Колорадо-Спрингс… Я знаю, что меня ждет… Наплевать… Я могу бороться и в одиночку.
– Ах, Бен, не говори так… ты же знаешь, я предана тебе душой и телом…
Она порывисто привлекла его к себе. Вдруг он ее поцеловал.
Утром, одеваясь, они вдрызг разругались. Речь зашла о подлинной практической ценности ее исследовательской работы. Она заметила по этому поводу, что, мол, не ему судить, так как забастовка вовсе не увенчалась успехом. Он убежал из дома, так и не позавтракав. В слепой ярости, сжав зубы, она отправилась в верхнюю часть города в комитет и отказалась от своей работы. Через несколько дней Мэри уже была в Бостоне, где ее приняли на службу в только что созданный комитет по защите Сакко и Ванцетти на их судебном процессе.
Прежде ей никогда не приходилось бывать в Бостоне. В эти солнечные зимние дни у города из красного кирпича был такой старинный вид, как на гравюре по металлу, и он ей очень понравился.
Она нашла маленькую комнатку на окраине трущоб, за Бикон-хиллом, и про себя решила, что, если это дело в суде будет выиграно, она обязательно напишет роман о Бостоне. Она купила в небольшом, пахнущем плесенью магазине канцелярских товаров несколько тетрадок школьных прописей и сразу принялась за дело, начала набрасывать первые заметки для будущей книги. От запаха новых тетрадок с едва заметными голубыми линиями ей почему-то стало хорошо. Она почувствовала себя бодрой и свежей, как прежде. Теперь она станет только наблюдать за жизнью. Больше она не полюбит ни одного мужчину. К Рождеству мать прислала ей чек. На эти деньги она купила себе кое-какие обновки и потрясающую, очень идущую ей шляпку. Теперь она снова стала завивать волосы.
Ее работа заключалась в том, чтобы постоянно поддерживать контакты с журналистами и добиваться от них доброжелательного освещения событий в печати. Ей казалось, что это подобно сизифову труду. Хотя большинство газетчиков, связанных с этим судебным расследованием, считали, что оба эти человека осуждены незаконно, все же в личной беседе они частенько говорили, что речь идет всего лишь о двух грязных итальяшках-анархистах, так что какого черта! Она побывала в Дедхэмской тюрьме, где беседовала с Сакко, потом съездила в Чарлстон, чтобы поговорить с Ванцетти. О своих впечатлениях она пыталась рассказать одному журналисту из «Юнайтед пресс», когда однажды в субботу вечером он пригласил ее пообедать в итальянском ресторане на Уэнновер-стрит.
Это был единственный из журналистов, с кем она поддерживала дружеские отношения. Он был ужасным пьяницей, но многое повидал в жизни, и у него были мягкие интеллигентные манеры, которые ей очень нравились. Она ему по неизвестным пока причинам тоже нравилась, хотя он немилосердно донимал ее, вышучивая в ней то, что называл «свойственным молодости фанатизмом».
После обеда с ним, когда он заставлял ее выпить ужасное количество красного вина, она обычно принималась убеждать себя, что не зря потратила с ним время, что ей очень важно постоянно находиться в контакте с представителями прессы.
Его звали Джерри Бернхем.
– Джерри, послушай, как ты можешь терпеть такое? Если власти штата Массачусетс способны убить двух ни в чем не повинных людей, несмотря на протесты всего мира, то это на практике означает, что в Америке больше никогда не восторжествует правосудие.