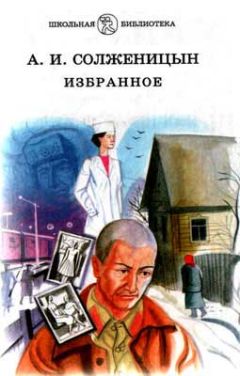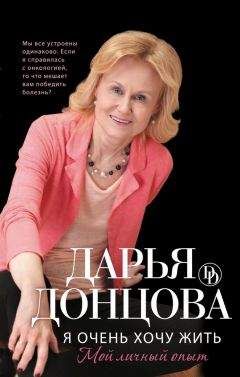Седой старичок-кондуктор кричал, чтобы стали вдоль вагона, чтоб не лезли, что всем место будет. Но это последнее у него не так уже уверенно было, а хвост позади Олега рос. И сразу же заметил Олег движение, которого опасался: движение прорваться поперёд очереди. Первым таким лез какой-то бесноватый кривляка, которого незнающий человек принял бы за психопата, и пусть себе идёт без очереди, но Олег за этим психопатом сразу узнал полуцветас этой обычной для них манерой пугать. А вслед за крикуном подпирали и простые тихие: этому можно, почему не нам?
Конечно, и Олег мог бы так же полезть, и была б его верная полка, но насточертело это за прошлые годы, хотелось по чести, по порядку, как и кондуктору-старичку.
Старичок всё-таки не пускал бесноватого, а тот уже толкал его в грудь и так запросто матерился, как будто это были самые обычные слова речи. И в очереди сочувственно загудели:
— Да пусть идёт! Больной человек!
Тогда Олег сорвался с места, в несколько больших шагов дошёл до бесноватого и в самое ухо, не щадя перепонки, заорал ему:
— Э-э-эй! Я тоже-оттуда! Бесноватый откинулся, ухо потёр:
— Откуда?
Олег знал, что слаб сейчас драться, что это всё на последних силах, но на всякий случай обе длинных руки у него были свободны, а у бесноватого одна с корзиной. И, нависнув над бесноватым, он теперь, наоборот, совсем негромко отмерил:
— Гдедевяностодевятьплачут, один смеётся. Очередь не поняла, чем излечен был бесноватый, но видели, как он остыл, моргнул и сказал длинному в шинели:
— Да я ничего не говорю, я не против, садись хоть ты. Но Олег остался стоять рядом с бесноватым и с кондуктором.
На худой-то конец отсюда и он полезет. Однако подпиравшие стали расходиться по своим местам.
— Пожалуйста! — укорял бесноватый. — Подождём! И подходили с корзинами, с вёдрами. Под мешочной накрывой иногда ясно была видна крупная продолговатая лилово-розовая редиска. Из трёх двое предъявляли билет до Караганды. Вот для кого Олег очередь установил! Садились и нормальные пассажиры. Женщина какая-то приличная, в синем жакете. Как сел Олег — так за ним уверенно вошёл и бесноватый.
Быстро идя по вагону, Олег заметил небоковую багажную полку, ещё почти свободную.
— Так, — объявил он. — Корзинку эту сейчас передвинем.
— Куда? чего? — всполошился какой-то хромой, но здоровый.
— Того! — отозвался Костоглотов уже сверху. — Людям ложиться негде.
Полку он освоил быстро: вещмешок пока сунул в головы, вытащив из него утюг; шинель снял, расстелил, и гимнастёрку сбросил — тут, наверху, все можно было. И лёг остывать. Ноги его в сапогах сорок четвёртого размера нависали над проходом на полголени, но так высоко не мешали никому.
Внизу тоже разбирались, остывали, знакомились.
Тот хромой, общительный, сказал, что раньше ветфельдшером был.
— И чего ж бросил? — удивились.
— Да что ты! — чем за каждую овечку на скамьюсадиться, отчего подохла, я лучше буду инвалид, да овощи свезу! — громко разъяснял хромой.
— Да чего ж! — сказала та женщина в синем жакете. — Это при Берии за овощи, за фрукты ловили. А сейчас только за промтовары ловят.
Солнце было уже, наверно, последнее, да его и заслонял вокзал. В низу купе ещё было светловато, а наверху тут — сумерки. Купированные и мягкие сейчас гуляли по платформе, а тут сидели на занятом, вещи устраивали. И Олег вытянулся во всю длину. Хорошо! С поджатыми ногами очень плохо двое суток ехать в арестантском вагоне. Девятнадцати человекам в таком купе очень плохо ехать. Двадцати трём ещё хуже.
Другие не дожили. А он дожил. И вот от рака не умер. Вот и ссылка уже колется как яичная скорлупа.
Он вспомнил совет коменданта жениться. Все будут скоро советовать.
Хорошо лежать. Хорошо.
Только когда дрогнул и тронулся поезд — там, где сердце, или там, где душа — где-то в главном месте груди, его схватило — и потянуло к оставляемому. И он перекрутился, навалился ничком на шинель, ткнулся лицом зажмуренным в угловатый мешок с буханками.
Поезд шёл — и сапоги Костоглотова, как мёртвые, побалтывались над проходом носками вниз.
1963–1967
С лёгкостью (идиом. — на лёгкие плечи)
Мы достаточно долго любили
И хотим, наконец, ненавидеть!(нем.)
Мы так долго ненавидели
И хотим, наконец, любить! (нем.)