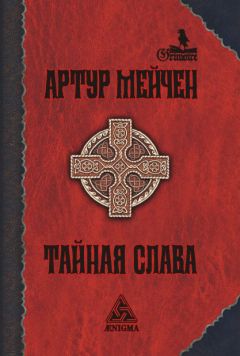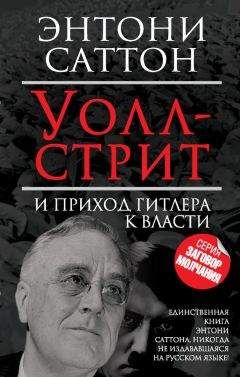Я дал ему шиллинг, ибо его музыка была прекрасной. Он неотрывно смотрел на меня и, закончив говорить, изменился в лице. Я подумал, что он, возможно, напуган, отсюда и его странный взгляд. Я спросил, не болен ли он.
— Я могу обрести прощение, — вместо ответа произнес музыкант, и теперь его голос звучал очень серьезно, без какой-либо тени лести, проскользнувшей в начале разговора. — Я могу получить прощение за разговор с таким человеком, как вы. Весь день я просил милостыню, а подал мне тот, кому предначертано стать Кровавым Мучеником.
Он снял старую помятую шляпу и продолжил, поразив меня своими словами до глубины души:
— Вспомните обо мне во дни вашей славы, — сказал он и быстро пошел прочь от Люптона.
Вскоре я потерял его из виду. Наверное, он был немного сумасшедшим, но играл, тем не менее, чудесно.
ЧАСТЬ IV Глава I
Описание странной истории, произошедшей в жизни Амброза Мейрика, можно найти в своего рода сборнике, который он назвал "О Веселье". Интересующий нас эпизод произошел, когда Амброзу исполнилось восемнадцать с половиной лет.
Не знаю, пишет он, как все это происходило. Я вел две активные жизни. Я играл в игры и успешно учился в школе, но это была моя внешняя жизнь, а внутренне я все чаще погружался в святилище бессмертных вещей. Жизнь трансформировалась для меня в сияющую славу, в живительное католическое причастие; об отупляющем воздействии школы нужно говорить особо, но, несмотря ни на что, я все более понимал, что стал участником потрясающего и очень важного ритуала. Думаю, я начинал проявлять нетерпение и внешне: мне кажется, я испытывал нечто вроде жалости, оттого что вынужден пить вино познания в одиночестве, оттого что сущность подчас бывает столь агрессивна.
В глубине сердца я просто хотел знать, что из великолепных невидимых фонтанов течет вино, хотел знать вещи, действительно "олицетворяющие" обнаженную красоту, без всевозможных драпировок. Сомневаюсь, понял ли Рэскин[230] мотив монаха, бредущего по горам с застланными печалью тазами и потому не способного видеть глубины и высоты вокруг себя. Рэскин называет это узким аскетизмом; думаю, это было результатом очень тонкого эстетизма. Внутренним мир монаха может достигать катарсиса на невиданных высотах и глубинах, зачастую пугающих, но, вероятно, именно таким образом он добивается, чтобы ничто не нарушало его экстаза.
По-видимому, в каком-то момент аскетический и эстетический принципы перестают различаться. Индийский факир, выкручивающий свои конечности и лежащий на раскаленных углях, внешне кажется более необычным, чем люди эпохи Ренессанса. В обоих случаях истинная линия искажена и искривлена, и ни в какой системе не достигает ни красоты, ни святости. Факир, как и художник Ренессанса, останавливается на поверхности. Ни в том, ни в другом случае не существует невыразимого сияния невидимого мира, проникающего через поверхность. Вне сомнений, кубок работы Челлини[231] прекрасен; но все же его нельзя сравнить с красотой старого кельтского кубка.
Думаю, в то время мне угрожала опасность пойти в неправильном направлении. В целом я был слишком нетерпелив. Небеса не позволяют мне утверждать, что я когда-либо приближался к тому, чтобы стать протестантом; но, возможно, я был склонен к фундаментальной ереси, на которой протестантство строит свою критику ритуала. Полагаю, что эта ересь действительно маниакальна; это — обвинение в развращенности и зле, совершенном против всей видимой вселенной, которая, как уже подтвердилось, — "не очень хороша, но и не очень плоха" и, уж во всяком случае, почти не используется в качестве проводника духовной правды. Между прочим, удивительно, но думающий протестант не чувствует того, что этот принцип отвергает постулаты Библии и всех учений так же, как отвергает свечи и ризы. В действительности протестант вовсе не считает, что логическое понимание — подходящий проводник вечной правды и что Бог может быть правильно и удовлетворительно определен и объяснен человеком. В противном случае, он просто осел. Фимиамы, одеяния, свечи, церемонии, процессии и обряды — все это весьма не соответствует требованиям; но и не превалирует в ужасных ловушках, недоразумениях и ошибках, которые неотделимы от человеческих речей, выдаваемых за высказывания Церкви. В танцах дикарем может быть больше правды, чем во многих гимнах в церковных книгах.
В конце концов, как говорил Мартинес[232], мы должны быть довольны тем, что имеем, даже если это — курильница, силлогизм или и то и другое вместе, даже если курильница более безопасна, чем я уже рассказывал. По, мне кажется, что крушение внешнем вселенной не так губительно, как разрушение людей. Цветок пли частичка золота без сомнения приближается к своему архетипу намного быстрее, чем это делает человек; следовательно, их привлекательность гораздо чище речей либо суждений людей.
Однако в те дни в Люптоне моя голова была переполнена сентенциям и, которые я черпал то там, то здесь, — вероятно, они представляли собой перевод из какой-то восточной книги. Я знал их дюжины; но вот все, что могу вспомнить теперь:
"Если Вы желаете опьянеть, воздержитесь от вина".
"Если Вы желаете красоты, не смотрите на красивые вещи".
"Если Вы желаете видеть, завяжите себе глаза".
"Если Вы желаете любви, не возвращайтесь к Любимому".
Думаю, мне понравилась парадоксальность высказываний. В этой связи можно допустить, что для человека с врожденным аппетитом к изысканности и правде, пусть даже не такой жестокой и ярко выраженной, атмосфере частной закрытой школы — благодатная почва для обострения его аппетита до безумия и неразборчивого голода. Подумайте о нашем друге Кол он еле, который, между прочим, — fin gourmet[233] вообразите его в пансионе, где пища — повторяющийся цикл ирландского тушеного мяса, вареного кролика, холодном баранины и соленой трески (без устриц и какого бы то ни было соуса!). Затем, когда он сполна вкусит прелести пансионной кухни, позвольте ему отведать яства в "Café Anglais"[234]. Его пристрастие к экзотическим блюдам будет поистине поразительным. Не следует забывать, что в каждом триместре мне приходилось слушать по воскресеньям одну из проповедей доктора, поэтому вовсе но удивительно, что я с трепетом внимал голосу "Персидской Мудрости" — по-моему, так называлась эта книга — и держал Нелли Форан на расстоянии в течение девяти или десяти месяцев, а при виде роскошного заката отводил глаза. Я жаждал духовной любви, подобной закату солнца.
Думаю, мне доводилось мельком видеть и более глубокие askesis[235], чем та, о которой пойдет речь. Возможно, в деле водителя Билла askesis присутствует в своей наипростейшей и наиболее рациональной форме, — не помню, в какой из великих работ "Theologia Moralis"[236] я нашел этот пример; в жизни Билл, вероятно, действительно был Quidam[237] и его занятие приравнивалось к Nauarchus[238]. Во всяком случае, Билл любил выпивать по четыре кружки нива; но он чувствовал, что две кружки этого напитка, выпитые перед работой, нагоняли на него сон и делали его менее внимательным в выполнении весьма ответственных обязанностей. Учитывая это, Билл мудро удовлетворялся одной кружкой, прежде чем сесть в свой кэб. Он ограничивал себя в хорошем, чтобы сохранить разум и гарантировать себе еще лучшее, — и не рисковал во время поездки с пассажирами. К этому простому аскетизму,
я думаю, приближается обычная дисциплина церкви — отказ от хороших товаров, приводящих к духовной смерти; отклонение от типичного к индивидуальному, от видения глазами к видению души. Поэтому в истинном аскетизме, в любой степени, всегда существует стремление к некоторому концу, к восприятию хорошего. Не из этих ли побуждений действует факир, истязающий сам себя? Не знаю; но если нет, его дисциплина — уже не аскетизм, а безумие, и к тому же безумие impius[239]. Умерщвляя себя просто ради умерщвления, он загрязняет и поносит храм. По это в скобках.
Как я уже говорил, мне только мельком доводилось видеть другую область askesis. Мистики меня поймут, если я скажу, что существуют моменты, когда темная ночь души видится более яркой, чем самый яркий ее день; существ) ют моменты, когда необходимо отогнать даже ангелов, коим дано лицезреть Всевышнего. Можно подниматься в пространства, столь отдаленные от обычной суеты жизни, что становится трудно находить аналогии в искусстве. По представьте живописца — нет нужды уточнять, что я имею в виду художника, — который осенен идеей о такой потрясающей, такой недостижимой красоте, что неизбежно понимает свое бессилие; он знает, что никакие краски, никакая техника не уберегут его видение от искаженной передачи. Хорошо, он покажет свое величие, не пытаясь раскрасить видение; он будет писать на голом vidil anima sed non pinxit manus[240]. He сомневаюсь, что существует много романов, которые никогда не были написаны. Парадоксально, но даже опасная философия, подтверждающая существование Бога, весьма Non-Ens[241], чуть Ens; однако в зависимости от настроения каждый по-своему оценивает эту мысль.