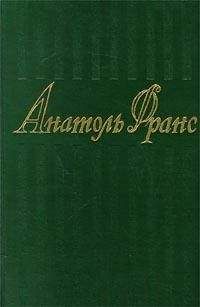Надо думать, люди и в самом деле становятся несчастными из-за преувеличенного представления о себе самих и своих ближних, а будь у них более скромное, более правильное представление о природе человеческой, они были бы добрее и к другим и к себе. Эта благожелательность к людям и побуждала аббата Куаньяра принижать ближних своих в их образе мыслей, их познаниях, их философии, их установлениях. Он стремился показать им, что их глупая природа не изобрела и не выдумала ничего такого, что стоило бы горячо оспаривать или защищать, и что если бы они сознавали, сколь грубы и шатки их величайшие творения, как, например, законы и государства, то могли бы только играть в войну, забавляясь, как дети, которые возводят замки из песка на берегу моря.
Поэтому не следует ни удивляться, ни возмущаться по поводу того, что он принижал все те идеи, с помощью которых человек стремится обрести славу и почести в ущерб собственному спокойствию. Величие законов не потрясало его прозорливый дух, и он сожалел, что несчастные люди взваливают на себя столько разных обязательств, ни смысла, ни происхождения которых обычно невозможно доискаться. Все принципы казались ему одинаково спорными. Это привело его к убеждению, что граждане лишь потому и обрекают на позор и бесчестие множество своих ближних, чтобы, сравнивая себя с ними, наслаждаться своей добропорядочностью. Поэтому он предпочитал дурное общество хорошему, по примеру того, кто жил среди мытарей и блудниц[189]. Он сохранял в этой среде чистоту сердца, дар сострадания и сокровища милосердия. Я не буду здесь говорить о его деяниях, описанных в «Харчевне королевы Гусиные Лапы». Я не задавался вопросом, был ли он, как говаривали о г-же де Муши, достойнее своей жизни. Мы не вполне распоряжаемся своими поступками, они меньше зависят от нас, нежели от случая. Они внушаются нам разными обстоятельствами, и мы не всегда заслуживаем того, что выпадает на нашу долю. Наша неуловимая мысль — вот в сущности и все, чем мы по-настоящему владеем. Отсюда-то и проистекает суетность людских суждений. Тем не менее я с удовольствием отмечаю, что люди тонкого ума все без исключения почитали г-на аббата Куаньяра приятным и любезным человеком. И одни только фарисеи могут не видеть в нем прекрасное творение божие! А теперь, после того как я это сказал, поспешу вернуться к его воззрениям, ибо они-то и представляют собою суть книги.
Аббату Куаньяру было не свойственно чувство преклонения. Природа отказала ему в нем, а сам он не сделал ничего, чтобы его приобрести. Он опасался, превознося одних, унизить других, и его всеобъемлющее милосердие одинаково осеняло и смиренных и гордецов. Правда, оно простиралось с большей заботливостью на пострадавших, на жертвы, но и сами палачи казались ему слишком презренными, чтобы внушать к себе ненависть. Он не желал им зла, он только жалел их за то, что в них столько злобы.
Он не верил, что какие-либо кары, узаконенные или произвольные, приводят к чему-нибудь иному, кроме умножения зла. Он не находил удовольствия ни в ехидных выпадах, продиктованных жаждой мести, ни в величественной жестокости законов, а если ему случалось улыбнуться, когда при нем били полицейского, то это был просто отклик плоти и крови да врожденная веселость.
Короче говоря, у него было весьма простое и ясное представление о зле. Он всецело приписывал его человеческой природе и естественным побуждениям организма, не усложняя этого представления всяческими предрассудками, которые в сводах законов приобретают искусственную прочность. Я уже говорил, что он не создал никакой системы, ибо не был склонен обходить трудности при помощи софизмов. Очевидно, с первой же трудностью он столкнулся в своих размышлениях о том, какими средствами можно утвердить счастье или хотя бы мир на земле. Он был убежден, что человек по природе своей — очень злое животное и человеческие общества потому так скверны, что люди созидают их согласно своим склонностям. Поэтому он и не верил, что может получиться что-нибудь хорошее, если человек вернется к природе. Сомневаюсь, изменил ли бы он свое мнение, если бы дожил до более поздней поры и мог бы прочесть «Эмиля»[190]. К тому времени, когда г-н Жером Куаньяр скончался, Жан-Жак еще не успел потрясти мир пламенным красноречием самой неподдельной чувствительности, которая уживалась у него с самой извращенной логикой. Он был тогда всего лишь малолетним бродягой, которому на скамейках пустынного парка в Лионе встречались, на его беду, совсем не такие аббаты, как г-н Жером Куаньяр. Можно пожалеть, что г-н Куаньяр, который знавал всяких людей, не столкнулся случайно с юным приятелем г-жи де Варенс[191]. Но, пожалуй, это была бы всего лишь забавная сценка, картина в романтическом духе: Жан-Жаку вряд ли пришлась бы по вкусу скептическая мудрость нашего философа. Трудно вообразить что-либо менее похожее на философию Руссо, чем философия аббата Куаньяра. Его философия проникнута доброжелательной иронией. Она снисходительна и покладиста. Основываясь на человеческой немощности, она имеет под собой твердую опору. А философии Руссо недостает счастливого сомнения и легкой усмешки. И так как она зиждется на мнимом фундаменте естественного добра, якобы присущего роду человеческому, то оказывается в очень неудобном положении и не замечает, насколько оно смешно. Это — философия людей, которые никогда не смеялись. Ее замешательство выражается в дурном настроении. Она не умеет быть обходительной. Все это было бы еще терпимо, но она тащит человека назад к обезьяне[192] и неосновательно возмущается, когда видит, что обезьяна лишена добродетели. Поэтому такая философия бессмысленна и жестока. И это стало ясно для всех, когда государственные деятели вздумали применить «Общественный договор» к наилучшей из республик[193].
Робеспьер чтил память Руссо. Аббат Куаньяр показался бы ему дурным человеком. Я бы не упомянул об этом, если бы Робеспьер был извергом. Напротив, это был человек великого ума и неподкупной честности. К несчастью, он был оптимистом и верил в добродетель. Вопреки своим самым благим намерениям государственные деятели подобного склада приносят наибольший вред. Если уж человек берется управлять людьми, он не должен упускать из виду, что они — просто гадкие обезьяны. Только при этом условии можно быть гуманным и доброжелательным политическим деятелем. Безумие Революции заключалось в том, что она хотела утвердить на земле добродетель. А когда людей хотят сделать добрыми, умными, свободными, умеренными, великодушными, то неизбежно приходят к тому, что жаждут перебить их всех до одного. Робеспьер верил в добродетель — и создал террор. Марат верил в справедливость — и требовал двести тысяч голов. Пожалуй, среди мыслителей XVIII века аббат Куаньяр больше всех расходился в своих принципах с принципами Революции. Он не подписался бы ни под единой строкой из «Декларации прав человека»[194] по причине того чрезмерного и несправедливого различия, которое проводится в ней между человеком и гориллой.
На прошлой неделе меня посетил один мой приятель-анархист, который удостаивает меня своей дружбы и которого я люблю потому, что, пока его еще не допустили к управлению страной, он сохранил много наивного простодушия. Он только потому и жаждет взорвать все, что считает людей хорошими и добродетельными от природы. Он полагает, что если их освободить от собственности, избавить от законов, с них сразу же слетит эгоизм и порочность. К этой дикой жестокости его привел самый что ни на есть мягкий оптимизм. Вся его беда и преступление в том, что он, обреченный быть поваром, обладает нездешней душой, которая вполне подошла бы для золотого века. Это своего рода Жан-Жак, очень простой и очень честный, который не растерялся бы при виде г-жи Удето и не размяк бы от благородной учтивости маршала Люксембургского[195]. Душевная чистота не позволяет ему отступиться от своей логики и делает его поистине страшным. Он рассуждает лучше всякого министра, но исходит из нелепых предпосылок. Он не верит в первородный грех, а ведь на этом прочном и незыблемом догмате можно было построить все, что ни вздумается.
Как жаль, что вы не встретились с ним у меня в кабинете, господин аббат Куаньяр, вы доказали бы ему ошибочность его учения! Вы не стали бы толковать с этим благородным утопистом о благах цивилизации и интересах государства. Вы-то понимали, что все это чепуха, и неприлично угощать ею бедняков; вы-то понимали, что общественный порядок — это просто организованное насилие и что всякий сам может судить, какой от него толк. Но вы нарисовали бы ему подлинную и страшную картину того естественного строя, который он жаждет восстановить; вы показали бы ему в той идиллии, о которой он мечтает, бесконечное множество кровавых и трагических междоусобиц, а в его блаженной анархии — зачатки чудовищной тирании.