— Ну, я пошел, — поспешно ответил струхнувший Радлак, — извини, что украл у тебя столько драгоценного времени. Ты не думай, я ничего не имею против Петровича, просто меня возмутило, что он выступал против учреждений…
— И правильно делал, — оборвал его председатель измученным голосом. — Известно, что газеты пишут о нарушении нашей политической линии, а левые утверждают, что мы — шовинисты, симпатизирующие диктаторским государствам. Петрович же выступил как раз против инородных элементов в нашей среде. Эти элементы — тот болезненный гнилой нарост, тот ядовитый гриб, который отравляет наше сознание, словно молодых неопытных пчел, и они падают на землю и уже не взлетают, а только жужжат и бестолково мечутся, пока не подохнут. Правительство же объективно. Во имя объективности оно оберегает и гнилые наросты, и опасные грибы. Объективность — это старая дева, которая не разбирает, где кто, — хорош любой… «Что, прикусил язык?» — торжествовал председатель.
Радлак с ужасом смотрел на председателя. Что он городит? Остановившись на полпути к дверям, он напряженно соображал, не пустить ли в ход еще и Розвалида и намеки Петровича на заседании комитета насчет автономии и словацкой Национальной академии, где засели попы, превратив ее в монастырь. Но промолчал, перехватив взгляд, который председатель демонстративно устремил сначала на стенные часы, а потом на свои, недвусмысленно показывая, что визит окончен.
Сделав несколько шагов, Радлак снова остановился.
— Ты не должен восторгаться бог знает кем, — сказал он напоследок. — Прислушайся к нему при обсуждении платежей, не нарушает ли он партийную дисциплину.
«Позвоню и прикажу вытолкать, — подумал председатель. — Он совершенно невыносим». И тяжело вздохнул. Ноги у него подкосились. Силы оставили его.
— Присмотрись к нему и увидишь адвоката, а не представителя народа. — Радлак еще раз задержался в дверях.
«Как старая баба, не уйдет никак. Теперь полчаса будет держаться за дверную ручку», — председатель еле сдержался, чтобы не открыть дверь и не дать ему пинка. Его уже мутило от Радлака.
— А как скверно, пан председатель, он отзывался о тебе, когда выдвигали кандидатуры! Ты его выдвигаешь, он тебя поносит. Язык не поворачивается повторить.
— Оба вы дрянь! — вышел из себя председатель. — Почему раньше молчал? Балаболка! Вам бы только авторитет подрывать! Заткнитесь! Никто мне не нужен. Идиоты пустомозглые! — Он перешел на зловещий шепот: — Ни Петрович, ни ты!
— А я ничего! Я уважаю и люблю тебя, пан председатель, как отца родного, — понизил голос и Радлак. С поспешностью, словно опасаясь, что на него обрушится потолок, он распахнул дверь и выскочил в полной растерянности, снова не зная, что же с ним теперь будет.
— Слава богу! — облегченно вздохнул председатель. Бодрость вернулась к нему. Он прошел через приемную в свой кабинет и там, даже не сев за письменный стол, взял чистый лист бумаги, выхватил карандаш из стакана и написал четыре большие римские единицы I I I I. Две первые перечеркнул, так что получилось + + I I. Эти кресты и единицы символизировали смерть и жизнь четырех государственных сановников — двое должны были умереть, двое родиться.
После минутного размышления он приписал: «Радлак против Петровича — выяснить!»
Он отбросил карандаш и махнул рукой. Высказал то, что родилось в голове.
— Когда кормишь свиней, открываешь хлев, а сами они не умеют запереть его. Задыхаются от жира, а слюнки все равно текут…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Торжественный удар
И вот опять тихий вечер, только на сей раз дома и пан депутат.
Никто не ссорился. Только что отужинали, и каждый с выражением блаженства на лице читал свою газету под большой люстрой, в которой горели пять лампочек. На Петровиче был зеленый колпак, короткая мохнатая куртка зеленоватого оттенка, на пани красный халат, подпоясанный широкой голубой лентой, завязанной сзади на бант; у Желки — халат неопределенного цвета, что-то зеленое и в то же время красно-голубое.
Пока шли выборы, хозяин дома, как кандидат крестьянской партии, покупал вещи только зеленого цвета: мягкие зеленые рубашки, зеленые галстучки, приобрел зеленую шляпу, зеленый костюм, зеленые гетры к нему и, как Микеска, зеленые спички; пани Людмила назло мужу купила красно-голубую шляпку, платье с красно-голубой каймой, туфли и шлепанцы с красно-голубыми носками, халаты и прочую одежду тех же национальных цветов. В одежде дочери заметно было влияние всех трех цветов — зеленого, красного и голубого, в зависимости от того, присутствовали ли при покупке отец, мать или оба.
Теперь, когда выборы были позади, домашняя демонстрация приверженности к партиям понемногу свертывалась, оставались лишь цветные тряпки, которые «донашивались». Став депутатом, Петрович как победитель благосклонно терпел и явно националистические расцветки. После националистической речи, произнесенной им во дворе ратуши перед студентами, и кампании левых газет, поднятой против него, эти цвета пустили тонкие корешки в его сердце, стали ближе и милее. Петрович уже не подтрунивал над женой:
— Этот красно-голубой халат не делает чести твоему вкусу… В красно-голубых туфлях нога кажется больше… Красно-голубые розочки на шляпе! Это еще куда ни шло для двенадцатилетней девочки, но не для дамы вроде тебя!
Жена тоже не говорила больше:
— Почему они не подставили тебе фонарь на лбу, чтоб у тебя в глазах позеленело… Только рот раскроешь, сразу видно мужика.
И начиналась обычная ссора, пока не вмешивалась Желка:
— Ну, не ссорьтесь.
Теперь Петрович думал: «Носи, что хочешь, мы победили. Впредь, если наш председатель будет умнее, не видать вам ни одного мандата. Не наберете и восьми тысяч голосов».
Пани Людмила думала: «Ходи себе в своем зеленом колпаке, но плохо вам будет, если не дадите нам хотя бы четыре мандата! А пока — мир!»
Итак, все читали. Петрович — «Видек», пани — «Властенца», а дочь просматривала журнал женских мод. Изучала спортивные костюмы.
Шуршали страницы, и откуда-то с четвертого этажа доносилось монотонное бормотание. Там слушали радиопередачу.
— Мы выросли на целых пятьдесят процентов, — довольным голосом рассказывал сам себе Петрович.
— Зарезал отца и мать… В квартиру ворвалась банда вооруженных детей, — читала вслух пани.
— Получим все тридцать восемь мандатов, — бубнил депутат.
— Пестиком от кухонной ступки нанес удар хозяину, потом они набросились на хозяйку…
— Вот прелестный спортивный костюм. — Желка подвинула журнал матери и показала картинку. — Я закажу себе такой… И вот такой халат для торжественного удара…
— Всех перебили… А? — очнулась пани Людмила.
— Чудесный спортивный костюм, — Желка постучала пальцем по картинке.
— Радлак вылетел, это точно, — не слушал Петрович жену и дочь. — Он лопнет от злости!.. Ха, политика с венграми, — разговаривал сам с собой Петрович.
Вдруг он услышал — «спортивный костюм», потом — «халат» и «торжественный удар». Радость, вызванную результатами выборов, заглушило что-то холодное, глупое, будничное, отчего морщатся лица и карманы. «Опять за мой счет выдумывают что-то без меня!» Чтобы убедиться, он отложил газету и спросил:
— Какой костюм?
— Я обещала «Спарте» сделать торжественный удар по мячу. Поэтому мне нужен новый спортивный костюм и халат, — объяснила Желка, — футбольные состязания на первенство края…
— Какой удар? — перебил ее отец.
— Сначала будут речи, потом гимны, как всегда на торжествах, потом мой торжественный удар, потом матч и, наконец, поздравительные телеграммы.
— Ты будешь бить по мячу?
— Понимаешь, это будет так, — затараторила Желка в ответ на грозный вопрос, — на поле положат мяч…
— В круг, — уточнила мать, — там нарисован круг. Рассказывай уж по порядку. Отец ничего не смыслит в футболе.
— Ну и объясняй сама. — Желка замолчала, предоставив слово матери.
— …в центральный круг, и выходит сбоку дама…
— Нет, с края, — поправила дочь.
— Ну и говори ты, если знаешь лучше, — уступила мать.
И они заговорили вдвоем, перебивая и стараясь перекричать друг друга.
— Говорите по очереди, — взмолился отец.
Обе замолчали.
— Ну, говори! — побуждала мать.
— Пожалуйста, — предлагала дочь, — ты ведь лучше знаешь!
— Говори же, — обратился Петрович к дочери.
— Я уже тренировалась, — доказала Желка свое преимущество перед матерью в вопросах футбола. Сорвав с головы отца колпак, она бросила его на ковер и с разбега наподдала ногой. Колпак взлетел выше люстры: Петрович не успел опомниться, он только инстинктивно вобрал голову в плечи, зажмурился и с закрытыми глазами возмутился:
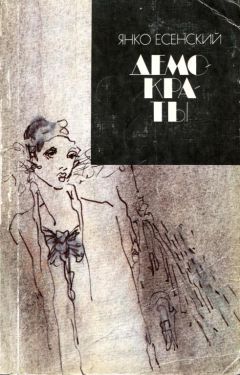

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)


